Единый принцип и другие виньетки - [11]
Ожидать такого, повторяю, не приходилось. Шла вторая половина 2000-х. На конференцию по русскому авангарду в одну из европейских столиц съехался цвет мировой славистики — народ в основном продвинутый. Я не мог поверить своим ушам. Тем более что никаким розыгрышем тут не пахло. Это был, что называется, момент истины. Правда жизни сама, по собственной воле, с неожиданной щедростью и во всей своей наготе раскрылась желающим.
Невероятное признание, слетевшее с уст одной российской участницы, прозвучало не в ударном месте доклада — не в заглавии и не в концовке, да и вообще не в докладе, а в реплике на чей-то вопрос, кажется, даже по поводу не ее выступления, а чьего-то еще. Целиком я ее слов не запомнил — только самое главное. Оно того стоило. Прозвучало нечто вроде «Это стихотворение очень нравилось Владимиру Ильичу» или, может быть, «Владимир Ильич очень любил это стихотворение», или«…этот плакат», или«…эту статью». Не помню. Но за «Владимира Ильича» ручаюсь головой.
Сюжет, в общем-то, типа того анекдота, в котором жена, застигнутая с любовником, говорит разгневанному мужу: «Не тронь его — он Ленина видел». Но эффект был много сильнее, и я вот уже три года как о нем размышляю.
Дело, думаю, в том, что я оказался втянут в действие мощной архетипической конструкции. Впечатление было как от нечаянного заглядывания в чужую квартиру — как если бы дверь вдруг открыла служанка в совершенном дезабилье, а в глубине виднелась спальня, в которой… ну и так далее. Впрочем, гривуазные параллели необязательны — диапазон аналогий гораздо шире. По хрестоматийному определению Карла Сэндберга, «поэзия — это открывание и закрывание двери, предоставляющее зрителям гадать, что промелькнуло перед ними».
Вспоминаются: пушкинский цветок засохший, безуханный, забытый кем-то в книге и вызывающий разнообразные догадки о том, к чему он мог быть причастен; аналогичная лермонтовская ветка Палестины; оттаявшие звуки почтового рожка в одном из русских приключений барона Мюнхгаузена; блоковская пылинка дальних стран; судьбоносные для бунинской героини слова о легком дыхании из старинной книги ее детства, всплывающие в разговоре с одноклассницей, а после смерти героини — в памяти ее учительницы; треуголка великого лицеиста и растрепанный том Парни, всего лишь столетие назад лежавшие среди мшистых пней царскосельского парка и таким образом связывающие нас с ним в стихотворении Ахматовой; клоп (поскольку речь об авангарде), обнаруживаемый учеными коммунистического будущего (в 1979 г.) на теле размороженного ими персонажа в пьесе Маяковского, и другие подобные манифестации механизмов культурной памяти.
Аналогичные построения применяются и в больших повествовательных жанрах, в частности в историческом романе. В «Капитанской дочке» читателю 1830-х годов предлагались записки Гринева о временах пугачевщины (1770-е годы), и в эпилоге сообщалось, что «в одном из барских флигелей показывают собственноручное письмо Екатерины II за стеклом и в рамке… к отцу Петра Андреевича… — оправдание его сына и похвалы уму и сердцу дочери капитана Миронова». Интервал в 60 лет, позволяющий по цепочке непосредственных человеческих связей заглянуть в «доступное прошлое» (visitable past, в формулировке Генри Джеймса, так построившего «Письма Асперна»), был задан уже в заглавии первого романа Вальтера Скотта «Уэверли, или Шестьдесят лет назад»; он же налицо в «Войне и мире». Примеров множество, хотя, разумеется, длина интервала может колебаться. Эта конструкция спародирована у Зощенко — в юбилейной речи управдома, вычисляющего, кого из его предков мог запросто брать на ручки Пушкин, а кто из них, наоборот, предположительно качал и нянчил поэта.
Особенно пикантны и филологически любопытны, конечно, истории, в которых из глубин прошлого до нас доносятся — во всей своей не тронутой временем свежести и мгновенно опознаваемой достоверности — именно словесные сигналы.
Один старший коллега рассказывал, как во время лекционной поездки в Венгрию его поселили у моложавой вдовы, сдававшей комнаты приезжим. Услышав, что гость из России, она похвасталась, что знает несколько русских слов, привезенных мужем с завьюженного Восточного фронта.
— Хе-леб, мала-ко, йай-ка… — произнесла она с деревянной правильностью, — и еще одно очень странное слово, только он его не переводил.
— ??
— Щии-КОТ-наа, — старательно пропела вальяжная венгерка, и в ее облике на мгновение проступили черты какой-то вертлявой рязанской хохотушки времен поистине des neiges d’antan. — Хоть вы скажите мне, что это такое?
Однако вернемся к нашей истории. Тетенька была не первой молодости, но отнюдь не старуха, так что скорее всего она не застала не только Владимира Ильича, но и Иосифа Виссарионовича, — разве что самый чуток. Поэтому ее короткость с Владимиром Ильичом не надо понимать слишком буквально; сама она его не видела и претендовать на это не собиралась. Но дверь, внезапно распахнутая ее бесхитростной репликой, вела в обычно закрытые от внешнего глаза кельи ее Института (архив Максима Горького? отдел Демьяна Бедного? сектор Ивана Бездомного?), где покойник десятилетиями поминался с той неповторимой смесью подобострастия и интимности, о которой сегодня могут дать лишь отдаленное представление произносимые с сакральным придыханием имена — кем Анны Андреевны, кем Надежды Яковлевны, а кем и Лидии Корнеевны.

Книга статей, эссе, виньеток и других опытов в прозе известного филолога и писателя, профессора Университета Южной Калифорнии Александра Жолковского, родившегося в 1937 году в Москве, живущего в Санта-Монике и регулярно бывающего в России, посвящена не строго литературоведческим, а, так сказать, окололитературным темам: о редакторах, критиках, коллегах; о писателях как личностях и культурных феноменах; о русском языке и русской словесности (иногда – на фоне иностранных) как о носителях характерных мифов; о связанных с этим проблемах филологии, в частности: о трудностях перевода, а иногда и о собственно текстах – прозе, стихах, анекдотах, фильмах, – но все в том же свободном ключе и под общим лозунгом «наводки на резкость».
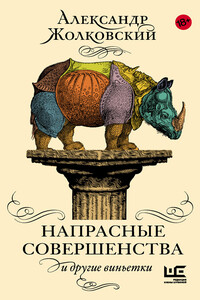
Знаменитый российско-американский филолог Александр Жолковский в книге “Напрасные совершенства” разбирает свою жизнь – с помощью тех же приемов, которые раньше применял к анализу чужих сочинений. Та же беспощадная доброта, самолюбование и самоедство, блеск и риск. Борис Пастернак, Эрнест Хемингуэй, Дмитрий Шостакович, Лев Гумилев, Александр Кушнер, Сергей Гандлевский, Михаил Гаспаров, Юрий Щеглов и многие другие – собеседники автора и герои его воспоминаний, восторженных, циничных и всегда безупречно изложенных.

Книга невымышленной прозы известного филолога, профессора Университета Южной Калифорнии Александра Жолковского, живущего в Санта-Монике и регулярно бывающего в России, состоит из множества мемуарных мини-новелл (и нескольких эссе) об эпизодах, относящихся к разным полосам его жизни, — о детстве в эвакуации, школьных годах и учебе в МГУ на заре оттепели, о семиотическом и диссидентском энтузиазме 60-х−70-х годов, об эмигрантском опыте 80-х и постсоветских контактах последних полутора десятилетий. Не щадя себя и других, автор с юмором, иногда едким, рассказывает о великих современниках, видных коллегах и рядовых знакомых, о красноречивых мелочах частной, профессиональной и общественной жизни и о врезавшихся в память словесных перлах.Книга, в изящной и непринужденной форме набрасывающая портрет уходящей эпохи, обращена к широкому кругу образованных читателей с гуманитарными интересами.

Книга прозы «НРЗБ» известного филолога, профессора Университета Южной Калифорнии Александра Жолковского, живущего в Санта-Монике и регулярно бывающего в России, состоит из вымышленных рассказов.
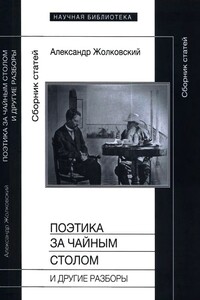
Книга представляет собой сборник работ известного российско-американского филолога Александра Жолковского — в основном новейших, с добавлением некоторых давно не перепечатывавшихся. Четыре десятка статей разбиты на пять разделов, посвященных стихам Пастернака; русской поэзии XIX–XX веков (Пушкин, Прутков, Ходасевич, Хармс, Ахматова, Кушнер, Бородицкая); русской и отчасти зарубежной прозе (Достоевский, Толстой, Стендаль, Мопассан, Готорн, Э. По, С. Цвейг, Зощенко, Евг. Гинзбург, Искандер, Аксенов); характерным литературным топосам (мотиву сна в дистопических романах, мотиву каталогов — от Гомера и Библии до советской и постсоветской поэзии и прозы, мотиву тщетности усилий и ряду других); разного рода малым формам (предсмертным словам Чехова, современным анекдотам, рекламному постеру, архитектурному дизайну)

Книга невымышленной прозы известного филолога, профессора Университета Южной Калифорнии Александра Жолковского, родившегося в 1937 году в Москве, живущего в Санта-Монике и регулярно бывающего в России, состоит из полутора сотен мемуарных мини-новелл о встречах с замечательными в том или ином отношении людьми и явлениями культуры. Сочетание отстраненно-иронического взгляда на пережитое с добросовестным отчетом о собственном в нем участии и обостренным вниманием к словесной стороне событий делают эту книгу уникальным явлением современной интеллектуальной прозы.

Автор — полковник Красной армии (1936). 11 марта 1938 был арестован органами НКВД по обвинению в участии в «антисоветском военном заговоре»; содержался в Ашхабадском управлении НКВД, где подвергался пыткам, виновным себя не признал. 5 сентября 1939 освобождён, реабилитирован, но не вернулся на значимую руководящую работу, а в декабре 1939 был назначен начальником санатория «Аэрофлота» в Ялте. В ноябре 1941, после занятия Ялты немецкими войсками, явился в форме полковника ВВС Красной армии в немецкую комендатуру и заявил о стремлении бороться с большевиками.

Выдающийся русский поэт Юрий Поликарпович Кузнецов был большим другом газеты «Литературная Россия». В память о нём редакция «ЛР» выпускает эту книгу.

«Как раз у дверей дома мы встречаем двух сестер, которые входят с видом скорее спокойным, чем грустным. Я вижу двух красавиц, которые меня удивляют, но более всего меня поражает одна из них, которая делает мне реверанс:– Это г-н шевалье Де Сейигальт?– Да, мадемуазель, очень огорчен вашим несчастьем.– Не окажете ли честь снова подняться к нам?– У меня неотложное дело…».

«Я увидел на холме в пятидесяти шагах от меня пастуха, сопровождавшего стадо из десяти-двенадцати овец, и обратился к нему, чтобы узнать интересующие меня сведения. Я спросил у него, как называется эта деревня, и он ответил, что я нахожусь в Валь-де-Пьядене, что меня удивило из-за длины пути, который я проделал. Я спроси, как зовут хозяев пяти-шести домов, видневшихся вблизи, и обнаружил, что все те, кого он мне назвал, мне знакомы, но я не могу к ним зайти, чтобы не навлечь на них своим появлением неприятности.

Изучение истории телевидения показывает, что важнейшие идеи и открытия, составляющие основу современной телевизионной техники, принадлежат представителям нашей великой Родины. Первое место среди них занимает талантливый русский ученый Борис Львович Розинг, положивший своими работами начало развитию электронного телевидения. В основе его лежит идея использования безынерционного электронного луча для развертки изображений, выдвинутая ученым более 50 лет назад, когда сама электроника была еще в зачаточном состоянии.Выдающаяся роль Б.

За многие десятилетия жизни автору довелось пережить немало интересных событий, общаться с большим количеством людей, от рабочих до министров, побывать на промышленных предприятиях и организациях во всех уголках СССР, от Калининграда до Камчатки, от Мурманска до Еревана и Алма-Аты, работать во всех возможных должностях: от лаборанта до профессора и заведующего кафедрами, заместителя директора ЦНИИ по научной работе, главного инженера, научного руководителя Совета экономического и социального развития Московского района г.