Двое и один - [2]
И сама Александра волновалась и тревожилась не менее сестры. Она негодовала и досадовала на предстоящие роды. Они помешали ей тотчас же по окончании курса сестер унестись туда, на передовые позиции, где сражались муж с братом, где нужна была молодая, умелая и сильная пара рабочих рук. Впрочем, она казалась счастливее Эли: ту забраковали при приеме на курсы в их губернском городе, забраковали по слабости здоровья.
— Из-за горба! Исключительно из-за проклятого горба! — исступленно тогда же вернувшись с медицинского осмотра домой в усадьбу, кричала на весь дом взволнованная девушка. — И то правда, кто рискнет поручить калеке больных, раненных? Калека — нечто слабое, жалкое, ничтожное… Ведь за самой калекой смотреть надо… Уход ей нужен, лечение! Проклятие, а не жизнь. Уж лучше бы совсем насмерть пристукнули, чем так-то… Господи, возьми меня, да, возьми меня, Господи…
И опять рыдания… Глухие, стенающие, отчаянные.
А по ночам, в эти долгие зимние ночи, когда весь старый дом наполнялся шорохами и шумами, тресками полов и стрекотаньем сверчка, плакала, изнемогая от ожидания и бессильной злобы, старшая Александра. Плакала из-за невозможности вырваться сразу из этой глуши, броситься туда, где сосредоточились все главные артерии нашей жизни… Но надо было смириться, надо было ждать. И уже враждебно относилась к будущему ребенку; казался он ей ненужным; тяжелым бременем казался он ей теперь.
Со дня на день ожидала родов, терзалась и мучилась промедлением. Лихорадочно читала письма мужа и брата… Жадно проглатывала известия с войны и снова плакала по ночам, плакала от зори до зори, от вечера до утра. Плакала и старая мать у себя втихомолку. Плакала и молилась. Теплила лампады в огромных неуютных комнатах старого дома, вынимала частичку о здравии сына и тех двоих, более далеких. А за ранним обедом, когда сходились, чтобы наскоро и нехотя проглотить не идущие в горло куски и поглядывая то и дело в окна, в ожидании почтаря Ефима, казались друг другу чужими и враждебными, эти три женщины, такие близкие по крови,
Каждая словно читала мысли и тайные желания другой.
Если суждено письмо, сделай так, чтобы было оно от Андрюши… страстно и наивно молила одна.
От Севы… от моего Севы… настойчиво вымаливала у судьбы другая…
От Миши… Миши… Миши! Дай Господи, чтобы от Миши… лепетала маленькая горбунья. И все ревниво и недоброжелательно все трое следили друг за другом.
III
И вот однажды, вместо желанного письма, пришло иное страшное известие. Откуда-то из океана молвы сначала выплыло оно и приняло свой неясный чудовищный облик. Кто-то из соседей приехал из города… Смутно слышал дошедшую весть. Двух Кирьяновых убили! Но которых? Ни кто не знал, ни кто не умел ответить достоверно. Андрей, Всеволод и Михаил были троюродные братья из трех разных родственных семей и носили одну и ту же фамилию, все трое будучи с родстве между собой. И все трое по чину были поручиками.
Долго дознавались из своей глуши об именах погибших, не веря ни слухам, ни газетным известиям. Но вскоре после первого жуткого известия пришло и второе. Ранен и третий Кирьянов и едет в Нагорное домой.
Мать и две дочери, все трое в глубоком трауре, выехали к поезду. Белели еще не стаявшие снега на поле, и снова медленно принимало свою голубую окраску аквамариновое небо. Три женщины казались тремя темными призраками на фоне этой белой, чистой радостной сказки. Мать, еще более постаревшая, осунувшаяся, с желтым как пергамент лицом, казалась неживой от пережитого горя.
Три дня находилась она в неведении, пока не пришло известие из штаба, кто из троих Кирьяновых пал с честью на поле брани.
Оказалось самое жуткое, самое безысходное для материнского сердца: погиб Андрюша, её сын, её первенец, её любимец. И молодой жизнерадостный Миша тоже… Жених бедной Эли. Двое погибших. Двое безвозвратно утерянных навсегда.
Мать вылила последние слезы. Страдала за себя, страдала за Элю. Её молодое горе потрясало немногим менее своего. Кудрявая головка горбатой красавицы то затихала неподвижно на материнской груди, то начинала биться о стены и двери и извергать вопли отчаяния, муки, почти животного страдания. И тогда как то сразу замирало собственное горе. И выдвигалось это молодое, животрепещущее, жуткое в своем аффекте. Мертвый Андрей отступал на минуту и давал место другому погибшему. Пока не утихали девичьи рыдания, пока не замирала обессиленная голова девушки снова на её старой груди.
В день приезда раненого Всеволода решили сопровождать на вокзал Сашу. Роды могли наступить каждую минуту, нельзя было отпустить даже и в недолгий путь одну. Приехали в город задолго до прихода поезда. Сгруппировались в уголке зала первого класса. Все трое в крепе, все трое в черном, все трое с побледневшими и осунувшимися лицами. У одной Саши глаза горели еще огнем ожидания. Были некоторые надежды в груди и смутная блеклая радость встречи. Вернее отголосок радости. Смерть брата, горе сестры… Общее горе… И впереди еще рана мужа…Какая рана…Опасная? Жуткая? Грозящая сделать его калекой? Ах, она не знает ничего, ничего… В телеграмме стояло так глухо, так смутно: «Ранен. Возвращаюсь. Целую». И все.

Жила в роскошном замке маленькая принцесса Эзольда, хорошенькая, нарядная, всегда в расшитых золотом платьях и драгоценных ожерельях. Словом, настоящая сказочная принцесса — и, как все сказочные принцессы, недовольная своей судьбой.Совсем избаловали маленькую Эзольду. Баловал отец, баловала мать, баловали старшие братья и сестры, баловала угодливая свита. Чего ни пожелает принцесса — мигом исполняется…

Некрасивая, необщительная и скромная Лиза из тихой и почти семейно атмосферы пансиона, где все привыкли и к ее виду и к нраву попадает в совсем новую, непривычную среду, новенькой в средние классы института.Не знающая институтских обычаев, принципиально-честная, болезненно-скромная Лиза никак не может поладить с классом. Каждая ее попытка что-то сделать ухудшает ситуацию…

Повесть о жизни великого подвижника земли русской.С 39 иллюстрациями, в числе которых: снимки с картин Нестерова, Новоскольцева, Брюллова, копии древних миниатюр, виды и пр. и пр.
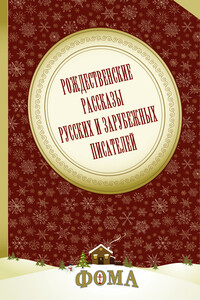
Истории, собранные в этом сборнике, объединяет вера в добро и чудеса, которые приносит в нашу жизнь светлый праздник Рождества. Вместе с героями читатель переживет и печаль, и опасности, но в конце все обязательно будет хорошо, главное верить в чудо.
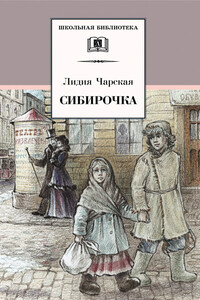
В книгу Л. Чарской, самой популярной детской писательницы начала XX века, вошли две повести: «Сибирочка» и «Записки маленькой гимназистки».В первой рассказывается о приключениях маленькой девочки, оставшейся без родителей в сибирской тайге.Во второй речь идет о судьбе сироты, оказавшейся в семье богатых родственников и сумевшей своей добротой и чистосердечностью завоевать расположение окружающих.Для среднего школьного возраста.
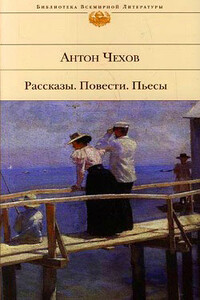
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
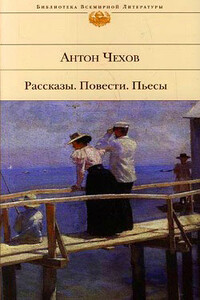
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
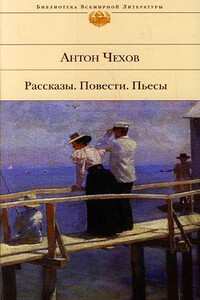
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1896, номер 136, 19 мая.В собрания сочинений не включалось.Печатается по тексту газеты «Нижегородский листок».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
