Движение литературы. Том I - [227]
В склад маканинской прозы, конечно, вошел и «экзистенциальный опыт», специфичный для нашего века, не знаемый девятнадцатым. В ней, в этой прозе, бросается в глаза отсутствие трогательного как эстетического переживания. Даже объективно трогающие вещи рассказываются так, чтобы не растрогать, не умилить, как будто и не было в недрах русской культуры омывающего душу «умиления». Есть тут некое неверие, что на этих путях можно к «внутреннему человеку» достучаться, – нет, его надо пронять и «достать», не церемонясь с его чувствительностью, он слишком ко многому привык. В некоторых вещах Маканина – в «Солдате и солдатке», ряде этюдов из «Голосов» – ощутимо, помимо мотивов Платонова, сильное совпадение со «знаньевцами»: дореволюционным Буниным, Серафимовичем как автором «Города в степи», с циклом Горького «По Руси»; тот же градус «жестокости», рассказывание недрогнувшим голосом о страшном. «Знаньевцы» в этом смысле открывали собой XX век, еще на пороге его главных потрясений. «Тело» попадает в фокус внимания такой литературы совсем не потому, что подавило жизнь духа своим биологическим цветением, чувственной экспансией. Нет, тело с его незащищенностью – достижимостью для взрыва и для пожара, для яростного самосуда (легенда об уральском разбойнике в «Голосах») и для хладнокровного ножа хирурга – становится объектом и средоточием травмы. Маканин показал травмированных войной послевоенных людей – тема, в жизни далеко не выболевшая. В «Солдате и солдатке» встреча и расставанье двух деревенских жителей происходят на анекдотической основе, что никак не вяжется с их серьезными, крупными, полновесными характерами, с традиционной опрятностью их житейских правил. Но в этой-то неувязке и состоит скрытый драматизм их положения, ключ к которому дан заглавием повести, хотя ее события случаются лет через двадцать после войны. Использованные, выжатые великой войной, не приставшие в своем захолустье к меняющейся жизни, солдат и солдатка остаются без потомства, без сбывшихся замыслов, застывают на некой черте, служащей стартовой отметкой для следующей генерации, и платят свою незаметную цену за ее будущее «облагополучивание»… Целые звенья выпали из преемственности поколений, семей, родов, и это тоже травма на живом теле, какую не осмысливала старая литература.
7
Тем не менее проза Маканина попросту лишается стержня, если в малом пространстве ее социальных «анекдотов» не разглядеть классически просторной внутренней тематики. Так не был прочитан критикой «Гражданин убегающий». Не для того же рассказана эта история, чтобы принудить сердце читателя к противоестественному выверту, заставив его пожалеть беспардонного таежного «романтика», который засеял осваиваемые пространства своим случайным потомством, а сиротливых детей, преследующих беспутного отца, – подвергнуть опрометчивому суду.
Внутренняя тема Убегающего – донжуанская (отнюдь не в бытовом ее снижении), завершающаяся неизбежной гибелью этого печального грешника, который всю жизнь губил то, что любил, что было для него предметом эротического восторга. Речь идет о Земле, ее красоте и ее нетронутости, до коих так охоч Павел Алексеевич, этот Дон-Жуан «русского космизма». Здесь никакая не аллегория, а самая настоящая страсть, сродни тому космическому чувству, которое продиктовало Достоевскому монолог Хромоножки в «Бесах», Владимиру Соловьеву – любовное признание озеру Сайма как «душе мира», а Заболоцкому – его «Лесное озеро». Чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть глазами Павла Алексеевича на мир тайги, на ручьи и речки, ощущая вместе с ним «стыдливость их быстрых поворотов», на стволы деревьев, пробуждающие в нем «некое вожделение». «Они летели над тайгой, которую сверху Павел Алексеевич знал почти так же, как снизу. При каждом повороте реки возникали ряды выстаревших елей, каждый раз – новые, в них было выражение, в них был смысл и даже обнаруживалось вдруг лицо с особым, своим рисунком…» Но, переведенное в практику, чувство это разрушительно: Павлу Алексеевичу дано прикасаться к этой красоте, только ее истребляя. Он, первопроходец и цивилизатор, собственно, под тем условием здесь и находится, чтобы нарушать целость и равновесие земли. Он бежит вглубь, все дальше, все восточнее, гонимый и жаждой нового наслаждения, и отвращением к покинутой жертве, «тоской и скукой ненавистной», – как то и положено фаустовско-донжуанскому типу. «Порушив нехоженость, чуть обжив и наведя людей на дело, уходил, а уж люди вытаптывали вслед за ним».
Конечно, это не личная только коллизия Павла Алексеевича, а историческая, эпохальная. К природе должен бы прийти и прикоснуться кто-то другой, бережный, нареченный, а приходит Костюков со товарищи. «Ели, ручьи, травы – они привычно ждали человека наивных знаний и больших страстей, но те века кончились». И взлетает корнями вверх маленькая елочка. И стираются волнующие, вожделенные изгибы и очертания Земли. (Сравним с раздумьями композитора Башилова, который тоже ведь чувствует себя – в духовном измерении – разрушителем, истощившим родную почву Аварийного поселка: «Он смотрел туда, где сходилось небо с холмами. Эта врезавшаяся в память волнистая линия… рождала мелодию еще раньше, чем он успевал о чем-либо подумать. Но, кажется, эта волнистая линия плодоносила именно в воспоминаниях и только в воспоминаниях. Он ее унес. И здесь, наяву, эта местность ничего не рождала. Она была выпита, как бывает выпита вода, водица…»).

В двухтомнике представлен литературно-критический анализ движения отечественной поэзии и прозы последних четырех десятилетий в постоянном сопоставлении и соотнесении с тенденциями и с классическими именами XIX – первой половины XX в., в числе которых для автора оказались определяющими или особо значимыми Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Вл. Соловьев, Случевский, Блок, Платонов и Заболоцкий, – мысли о тех или иных гранях их творчества вылились в самостоятельные изыскания.Среди литераторов-современников в кругозоре автора центральное положение занимают прозаики Андрей Битов и Владимир Маканин, поэты Александр Кушнер и Олег Чухонцев.В посвященных современности главах обобщающего характера немало места уделено жесткой литературной полемике.Последние два раздела второго тома отражают устойчивый интерес автора к воплощению социально-идеологических тем в специфических литературных жанрах (раздел «Идеологический роман»), а также к современному состоянию филологической науки и стиховедения (раздел «Филология и филологи»).

В новой книге известного слависта, профессора Евгения Костина из Вильнюса исследуются малоизученные стороны эстетики А. С. Пушкина, становление его исторических, философских взглядов, особенности религиозного сознания, своеобразие художественного хронотопа, смысл полемики с П. Я. Чаадаевым об историческом пути России, его место в развитии русской культуры и продолжающееся влияние на жизнь современного российского общества.

В статье анализируется одна из ключевых характеристик поэтики научной фантастики американской Новой волны — «приключения духа» в иллюзорном, неподлинном мире.

Диссертация американского слависта о комическом в дилогии про НИИЧАВО. Перевод с московского издания 1994 г.

Научное издание, созданное словенскими и российскими авторами, знакомит читателя с историей словенской литературы от зарождения письменности до начала XX в. Это первое в отечественной славистике издание, в котором литература Словении представлена как самостоятельный объект анализа. В книге показан путь развития словенской литературы с учетом ее типологических связей с западноевропейскими и славянскими литературами и культурами, представлены важнейшие этапы литературной эволюции: периоды Реформации, Барокко, Нового времени, раскрыты особенности проявления на словенской почве романтизма, реализма, модерна, натурализма, показана динамика синхронизации словенской литературы с общеевропейским литературным движением.

Книга посвящена изучению творчества Н. В. Гоголя. Особое внимание в ней уделяется проблеме авторских психотелесных интервенций, которые наряду с культурно-социальными факторами образуют эстетическое целое гоголевского текста. Иными словами, в книге делается попытка увидеть в организации гоголевского сюжета, в разного рода символических и метафорических подробностях целокупное присутствие автора. Авторская персональная онтология, трансформирующаяся в эстетику создаваемого текста – вот главный предмет данного исследования.Книга адресована философам, литературоведам, искусствоведам, всем, кто интересуется вопросами психологии творчества и теоретической поэтики.

Первостепенным компонентом культуры каждого народа является языковая культура, в которую входят использование языка в тех или иных сферах жизни теми или иными людьми, особенности воззрений на язык, языковые картины мира и др. В книге рассмотрены различные аспекты языковой культуры Японии последних десятилетий. Дается также критический анализ японских работ по соответствующей тематике. Особо рассмотрены, в частности, проблемы роли английского языка в Японии и заимствований из этого языка, форм вежливости, особенностей женской речи в Японии, иероглифов и других видов японской письменности.

В книге рассмотрен ряд текстов Пушкина и Тютчева, взятых вне сравнительно-сопоставительного анализа, с расчетом на их взаимоосвещение. Внимание обращено не только на поэтику, но и на сущностные категории, и в этом случае жанровая принадлежность оказывается приглушенной. Имманентный подход, объединяющий исследование, не мешает самодостаточному прочтению каждой из его частей.Книга адресована специалистам в области теории и истории русской литературы, преподавателям и студентам-гуманитариям, а также всем интересующимся классической русской поэзией.
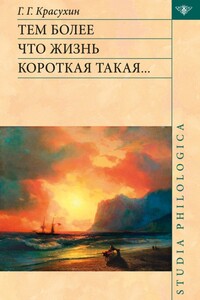
Это наиболее полные биографические заметки автора, в которых он подводит итог собственной жизни. Почти полвека он работал в печати, в том числе много лет в знаменитой «Литературной газете» конца 1960-х – начала 1990-х годов. Четверть века преподавал, в частности в Литературном институте. Нередко совмещал то и другое: журналистику с преподаванием. На страницах книги вы встретитесь с известными литераторами, почувствуете дух времени, которое видоизменялось в зависимости от типа государства, утверждавшегося в нашей стране.