Двадцатилетие передвижников - [6]
Товарищество, независимо от того, что создано его кистью и карандашом, представляет, уж одним своим сплочением и составом, пример чего-то совершенно у нас небывалого и на первый взгляд чего-то как будто бы немыслимого. Это — ассоциация людей, существующих на свои средства, не ожидающих и никогда не требовавших ничьей посторонней помощи, существующих сами по себе и никогда не сдававших в энергии, бодрости и горячности. Когда, где можно указать у нас что-нибудь подобное? Заводились у нас, бывало, даже еще в прошлом веке, товарищества масонов, оживленных целями моральными и религиозными — их либо скоро потом закрывали, либо они сами закрывались, потому что переходили за черту возможного в русской государственной жизни, или превращались в пустейшие сборища для нелепой кукольной формалистики и мистических мечтаний; заводились у нас общества нравственные и благотворительные (как, например, общество посещения бедных), заводились общества ученые (археологическое, географическое и множество других), но все они скоро либо совсем исчезали, либо становились хилы и расслаблены — от безмерного охлаждения членов, от наступления полного их равнодушия к собственному делу. Товарищество передвижных выставок представляет какое-то необычайное, несравненное исключение. Одно оно на целую Россию никогда не теряло из виду своей цели, одно оно никогда не теряло храбрости и энергии, одно оно всегда шло тем же крупным и могучим шагом, каким начало. И это целых двадцать лет! Но не надо забывать, что кроме всех остальных товарищей, у этого несравненного художественного общества был всегда еще один товарищ, который много придавал ему силы, бодрости и надежды на жизнь. Это — П. М. Третьяков, московский собиратель. С чудною, небывалою еще у нас инициативою он создал национальную галерею, куда радушно призывал все значительнейшие создания русского художественного творчества, но куда впускал не всех сплошь и без разбора, лишь бы художник славился в настоящую минуту, а его творения были в моде и всеобщем ходу, как это происходит у большинства собирателей-любителей: он к себе впускал новых лишь по действительному убеждению и по искренней симпатии. Раньше галереи П. М. Третьякова уже существовали у нас галереи Прянишникова и Солдатенкова. Но какая между ними и им разница! У тех в галереях царствует безразличие, всеядность, односторонние и бедные вкусы, в его галерее — широкий исторический взгляд, обширные рамки и горизонты, просветленный художественною мыслью и пониманием выбор. Во все двадцать лет существования Товарищества П. М. Третьяков шел рядом с ним, участвовал во всех его боях, счастьях и несчастьях и часто принимал на себя такие же удары невежества и тупой злобы, как и само Товарищество. Не далее как за два года до смерти Крамского, нашему великому художнику и самому могучему представителю Товарищества пришлось страстным своим словом печатно вступиться за П. М. Третьякова. Про него г. Аверкиев писал в своем «Дневнике»: «Наши московские меценаты ни уха, ни рыла не понимают в искусстве; они покупают картины из тщеславия, чтобы о них писали в газетах. На картину, которая не нашумит, они и глазом не взглянут». И это было писано во второй половине 80-х годов, вот как недавно! После многих лет существования чудесной галереи, вот какие понятия возможны были у нас о ней и о ее создателе. Вот как многие глухи, слепы ко всякому делу правды, света и великого исторического значения. Но таких людей, как П. М. Третьяков, чье-то жалкое тявкание никогда не способно остановить в их могучей работе, предпринятой всеми силами, всеми стремлениями души. П. М. Третьяков остался неизменным товарищем Товарищества.
III
Что юноши времен артели собирались делать, то зрелые художники времен Товарищества выполнили. И время, и общее настроение России, и литература, и собственная возмужалость — все им помогало. Конечно, не в 60-х и не в 70-х только годах нашего столетия впервые появились талантливые русские художники, они бывали и всегда, они рождались и гораздо ранее освободительного момента нашего отечества. Да только время было еще неблагоприятное, и они гибли один за другим, не принеся того плода, какого надо было бы от них ожидать. Казенность взгляда, этот неумолимый художественный капкан прежнего времени, вот что слишком сильно держало их за горло; слишком понаторелая нога топтала их, слишком опытная рука скашивала их. А потом и самые личности рождались иной раз недостаточно крупными, а другой раз недостаточно самостоятельными. Что могло бы быть из самого Брюллова, если бы он родился у нас не во времена сугубого классицизма и беспардонной итальянщины дурного вкуса в искусстве? Как бы хорошо было, если бы он никогда не знал ни Юпитера, ни Венер, ни Гвидо-Рениев, ни Каррачей. Он бы тогда не писал оперно-пошлую «Инес ди Кастро», ни лжерусскую «Осаду Пскова», ни даже блестящую и талантливую, но полную риторики, преувеличения и фальши «Помпею», а тем менее свои чисто академические картины и фрески на сюжеты религиозные, но зато написал бы, по всей вероятности, многое такое, что было бы поважнее и получше. У Рамазанова в его «Материалах» сохранилось любопытное известие о том, как смотрел Брюллов на искусство вообще и на «портрет» в особенности. «Похож-то похож, — сказал Брюллов про свой портрет, нарисованный одним тогдашним московским художником. — Похож, но карикатурен. Такие-то портреты доступны всем дюжинным живописцам, и иногда детям, но удержать лучшее лица и облагородить его — вот настоящее дело портретиста!» Таково было понятие Брюллова. Конечно, никто не будет стоять за портрет, где есть «карикатурность», никто его не похвалит и не станет им восхищаться. Его надо просто выбросить вон. Но куда же годно то мнение художника, да еще признаваемого в свое время великим, который требует, чтоб из рисуемого лица удержать только «все лучшее», да потом напустить туда некоего «благородства» — на что же это похоже? А ведь Брюллова слушались в то время, как оракула, ему повиновались, его повеления и указания подобострастно исполнялись. Какую же после того веру можно давать и его собственным портретам, да и портретам его учеников и последователей? Ведь это выходит — галерея лжи и фальши! Галерея сходства лишь очень отдаленного и совершенно условного! То же самое и в картинах его собственных и всей его школы: тут было все только удержание чего-то «лучшего» из мысли, из задачи, из представления, и — непозволительное, безумное «облагорожение» всего остального! Но насколько все это могло бы быть другое у Брюллова, при его несомненном врожденном таланте и большом художественном знании. К несчастью, натура у него, у его товарищей и у современной им школы везде была беспощадно заклана на алтаре фальши, выдумки и принятой школою условности. Да что Брюллов! Сам Федотов — человек, которого талант был полон правды и искренней жизненности, не в состоянии был выполнить всей задачи: даром что освободил русское искусство от вековых цепей, он все-таки сам из них не высвободился, и целой одной лапой и крылом увяз в них. Он сам еще не понимал хорошенько, что нравоучение и мораль — худой материал для художества, а из посторонних некому было объяснить ему это. Притом же, при всей даровитости и художественности его натуры, собственно художественная сторона его живописи была еще несколько слаба.

В этом предисловии к 23-му тому Собрания сочинений Жюля Верна автор рассказывает об истории создания Жюлем Верном большого научно-популярного труда "История великих путешествий и великих путешественников".
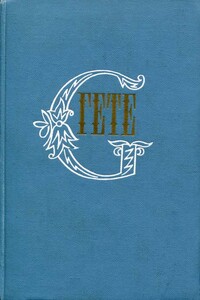
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Маленький норвежский городок. 3000 жителей. Разговаривают все о коммерции. Везде щелкают счеты – кроме тех мест, где нечего считать и не о чем разговаривать; зато там также нечего есть. Иногда, пожалуй, читают Библию. Остальные занятия считаются неприличными; да вряд ли там кто и знает, что у людей бывают другие занятия…».

«В Народном Доме, ставшем театром Петербургской Коммуны, за лето не изменилось ничего, сравнительно с прошлым годом. Так же чувствуется, что та разноликая масса публики, среди которой есть, несомненно, не только мелкая буржуазия, но и настоящие пролетарии, считает это место своим и привыкла наводнять просторное помещение и сад; сцена Народного Дома удовлетворяет вкусам большинства…».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.








