Два мира в древнерусской иконописи - [4]
Такова в нашей иконописи иерархия красок вокруг «солнца незаходимого». Нет того цвета радуги, который не находил бы себе места в изображении потусторонней Божественной славы. Но изо всех цветов один только золотой, солнечный обозначает центр божественной жизни, а все прочие – ее окружение. Один Бог – сияющий «паче солнца», есть источник царственного света. Прочие цвета, Его окружающие, выражают собою природу той прославленной твари небесной и земной, которая образует собою Его живой, нерукотворенный храм. словно иконописец каким-то мистическим чутьем предугадывает открытую веками позже тайну солнечного спектра. Будто все цвета радуги ощущаются им как многоцветные преломления единого солнечного луча Божественной жизни.
Этот божественный цвет в нашей иконописи носит специфическое название «ассиста». Весьма замечателен способ его изображения. Ассист никогда не имеет вида сплошного, массивного золота; это – как бы эфирная, воздушная паутинка тонких золотых лучей, исходящих от Божества и блистанием своим озаряющих все окружающее. Когда мы видим в иконе ассист, им всегда предполагается и как бы указуется Божество как его источник. Но в озарении Божьего света нередко прославляется ассистом и его окружение – то из окружающего, что уже вошло в божественную жизнь и представляется ей непосредственно близким. Так, ассистом покрываются сверкающие ризы Премудрости Божией Софии, и ризы возносящейся к небу Богоматери (после Успения). Ассистом нередко искрятся ангельские крылья. Он же во многих иконах золотит верхушки райских деревьев. Иногда ассистом покрываются в иконах и луковичные главы церквей. Замечательно, что эти главы в иконописных изображениях покрыты не сплошным золотом, а золотыми блестками и лучами. Благодаря эфирной легкости этих лучей они имеют вид живого, горящего и как бы движущегося света. Искрятся ризы прославленного Христа; сверкают огнем облачение и престол Софии Премудрости, горят к небесам церковные главы. И именно этим сверканием и горением потусторонняя слава отделяется от всего непрославленного, здешнего. Наш здешний мир только взыскует горнего, подражает пламени, но действительно озаряется им лишь на той предельной высоте, которой достигают только вершины церковной жизни. Дрожание эфирного золота сообщает и этим вершинам вид потустороннего блистания.
Вообще, потусторонние краски употребляются нашей древней иконописью, особенно новгородской, с удивительным художественным тактом. Мы не видим ассиста во всех тех изображениях земной жизни Спасителя, где подчеркивается Его человеческое естество, где Божество в Нем сокрыто «под зраком раба». Но ассист тотчас же выступает в Его облике, как только иконописец видит Его грядущее прославление>2. Ассистом нередко горит Христос-Младенец, когда иконописцу нужно подчеркнуть в изображении мысль о предвечном младенце. Ассистом окрашиваются ризы Христа в Преображении, Воскресении и Вознесении. Тем же специфическим блистанием Божества горит Христос, выводящий души из ада, и Христос в раю с разбойником.
>Успение Богоматери. Вторая половина XV в.
Особенно сильное художественное впечатление достигается употреблением ассиста именно там, где иконописцу нужно противопоставить друг другу два мира, оттолкнуть запредельное от здешнего. Это мы видим, например, в древних иконах Успения Богоматери. При первом взгляде на лучшие из этих икон становится очевидным, что лежащая на одре Богоматерь в темной ризе со всеми близкими, ее окружающими, телесно пребывает в здешнем плане бытия, который можно осязать и видеть нашими здешними очами. Напротив, Христос, стоящий за одром в светлом одеянии, с душою Богоматери в виде младенца на руках, производит столь же ясное впечатление потустороннего видения. Он весь горит, искрится и отделяется от умышленно тяжелых здешних красок земного плана эфирной легкостью покрытых ассистом воздушных линий. Контраст этот в особенности поразительно передан в двух иконах XVI в. в московских коллекциях А. В. Морозова и И. С. Остроухова.
Прибавим к этому, что на некоторых изображениях (у И. С. Остроухова) видна высоко в небесах Богоматерь, уже прославленная, в том же золотом блистании, среди сверкающих ассистом ангелов.
В других иконах Успения тот же художественный эффект отделения двух планов бытия иногда достигается другими цветами из той же гаммы небесных красок. Христос, стоящий позади одра Богоматери, отделяется от нее не только ассистом, но и особою окраскою небесных сфер, Его окружающих. Иногда это всего одна сфера, образующая вокруг Христа темно-синий овал, в котором видны херувимы; все они кажутся как бы потонувшими в синеве, за исключением одного, пурпурового, пламенного херувима на самой вершине овала, над головою Спасителя. Но иногда, например в замечательной новгородской иконе XVI в. в петроградском музее Александра III, мы видим в том же овале множество небесных сфер, расположенных друг над другом. Сферы эти отделяются одна от другой множеством оттенков и отливов голубого, причем некоторые из этих сфер окрашиваются невероятными, светлыми, зеленовато-бирюзовыми тонами; зритель получает от этих тонов прямо ошеломляющее впечатление нездешнего. Я долго мучился над загадкой, где мог художник наблюдать в природе эти краски, пока не увидал их сам, после заката солнца, на фоне северного, петроградского неба.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
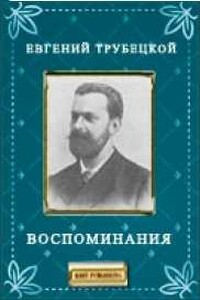
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
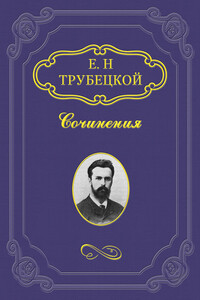
«В том колоссальном успехе, которым пользуется к России ибсеновский Бранд, поражает в особенности одна черта: восторженное поклонение относится в данном случае не столько к Ибсену, сколько к самому Бранду, успевшему за короткий срок стать героем нашего времени, идолом русской интеллигенции…».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Статья Л. М. Лопатина о моей книге еще не кончена; но, как ни странным это может показаться с первого взгляда, именно это обстоятельство побуждает меня поторопиться напечатанием настоящей заметки. Я в высшей степени дорожу мнением моего уважаемого друга и потому желал бы, чтобы в дальнейших его статьях оно в самом деле относилось к мыслям, мною высказанным. Поэтому я вынужден обратить его внимание на их действительный смысл…».
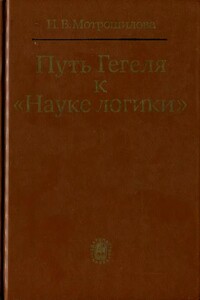
Книга представляет собой монографическое исследование становления философской мысли Гегеля (от ранних работ до «Науки логики» включительно), проведенное под углом зрения проблем системности и историзма.Впервые в советской литературе обстоятельно анализируются работы Гегеля раннего периода (в том числе непереведенные на русский язык). В ходе исследования дается критический разбор положений западного гегелеведения 60 – 70-х годов.
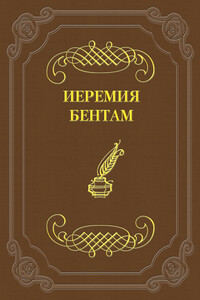
Тактика законодательных собраний Иеремии Бентама – классическое сочинение, ставшее в культурных странах начальным учебником и настольным руководством к действию для государственных деятелей. Идеи Бентама в настоящее время почти всецело воплощены в жизнь цивилизованных народов, и английские порядки, изложенные в «Тактике», легли в основу программных документов всех парламентов мира; но он писал в то время, когда парламентское устройство, и притом весьма несовершенное, существовало лишь в Англии и только зарождалось во Франции.

Книга посвящена актуальным проблемам традиционной и современной духовной жизни Японии. Авторы рассматривают становление теоретической эстетики Японии, прошедшей путь от традиции к философии в XX в., интерпретации современными японскими философами истории возникновения категорий японской эстетики, современные этические концепции, особенности японской культуры. В книге анализируются работы современных японских философов-эстетиков, своеобразие дальневосточного эстетического знания, исследуется проблема синестезии в искусстве, освящается актуальная в японской эстетике XX в.

Это не совсем обычная книга о России, составленная из трудов разных лет, знаменитого русского ученого и мыслителя Виктора Николаевича Тростникова. Автор, обладая колоссальным опытом, накопленным за много лет жизни в самых разнообразных условиях, остается на удивление молодым. Действительно, Россия в каком-то смысле пережила свое «самое длинное десятилетие». А суждения автора о всяческих сторонах общественной жизни, науки, религии, здравого смысла оказываются необычно острыми, схватывающими самую суть нашей сегодняшней (да и вчерашней и завтрашней) реальности.

Серия «Новые идеи в философии» под редакцией Н.О. Лосского и Э.Л. Радлова впервые вышла в Санкт-Петербурге в издательстве «Образование» ровно сто лет назад – в 1912—1914 гг. За три неполных года свет увидело семнадцать сборников. Среди авторов статей такие известные русские и иностранные ученые как А. Бергсон, Ф. Брентано, В. Вундт, Э. Гартман, У. Джемс, В. Дильтей и др. До настоящего времени сборники являются большой библиографической редкостью и представляют собой огромную познавательную и историческую ценность прежде всего в силу своего содержания.

Во 2-м томе марксистско-ленинская диалектика рассматривается как теоретическая и методологическая основа современного научного познания. Исследуется диалектика субъекта и объекта, взаимосвязь метода теория и практики, анализируется мировоззренческая, методологическая эвристическая и нормативная функции принципов, законов и категорий диалектики, раскрывается единство диалектики, логики и теории познания.