Душа болит - [4]
Но герой заявляет о своей самости не со смирением, а с агрессивностью, злобой, уничижением паче гордости.
Психологическим архетипом такого героя мог бы быть персонаж Достоевского или чеховский озорник Дымов из "Степи", которого скука жизни толкает то на бессмысленно-злобные поступки, то на покаяние.
Критики когда-то писали: настоящий Шукшин начинается с того, что пытается понять неправого. Ситуация, кажется, сложнее. Изображение неправого человека предполагает отчетливый и очевидный полюс правоты. В лучших рассказах о "чудиках" Шукшин пишет человека, в жизни которого верное направление потеряно и найти его невозможно. Лихорадочная активность или мертвый покой не меняют сути дела: жизнь уже сложилась, переиграть ее невозможно. Но можно валять дурака или поставить жизнь на кон.
Безобидные варианты чудачеств вызывают смех, другие — ведут к трагедии. Грань между тем и другим тонка и, бывает, меняется в одном рассказе ("Миль пардон, мадам!").
Степка Рысь, "забулдыга и непревзойденный столяр", хочет отремонтировать, вернуть к жизни церковь-красавицу, "светлую каменную сказку". Но власти духовные и светские отфутболивают его: "...Не разрешат мне ее ремонтировать, вот какое дело, сын мой. Грустное дело... Какая же это будет борьба с религией, если они начнут новые приходы открывать? — Как памятник архитектуры ценности не представляет... А главное, денег никто не даст на ремонт". Кончается все тоской и разочарованием. "С тех пор он про талицкую церковь не заикался, никогда не ходил к ней, а если случалось ехать талицкой дорогой, он у косогора поворачивался спиной к церкви, смотрел на речку, на луга за речкой, зло курил и молчал" ("Мастер").
Еще драматичнее выглядят попытки социального творчества. Самый смешной и грустный текст об этом — "Штрихи к портрету. Некоторые конкретные мысли Н. Н. Князева, человека и гражданина". Шукшин остановил свой художественный калейдоскоп и посвятил деревенскому Томасу Мору целых четыре сюжета.
Князев — пламенный утопист, который мечтает осчастливить мир уже не вечным двигателем или невиданной вакциной, а удивительной схемой построения целесообразного государства. "Структура государства такова, что даже при нашем минимуме, который мы ему отдаем, оно еще в состоянии всячески себя укреплять. А что было бы, если бы мы, как муравьи, несли максимум государству! Вы только вдумайтесь: никто не ворует, не пьет, не лодырничает — каждый на своем месте кладет свой кирпичик в это грандиозное здание... Когда я вдумался во все это, окинул мысленно наши просторы, у меня захватило дух. "Боже мой, — подумал я, — что же мы делаем! Ведь мы могли бы, например, асфальтировать весь земной шар! Прорыть метро до Владивостока! Построить лестницу до луны!" Я здесь утрирую, но я это делаю нарочно, чтобы подчеркнуть масштабность своей мысли. Я понял, что одна глобальная мысль о государстве должна подчинить себе все конкретные мысли, касающиеся нашего быта и поведения".
За свою бюрократическую утопию герой идет на собственную Голгофу, принимая вечное презрение жены, насмешки окружающих, безнадежно надеясь, что его "хоть раз в жизни дослушают до конца, поймут". "Я не могу иначе. Иначе у меня лопнет голова от напряжения, если я не дам выход мыслям".
Князев слишком буквально понял лозунги о власти советов и народном самоуправлении. Все заканчивается скандалом на почте и комическим шествием в милицию по улицам районного городка. "Князева подтолкнули вперед... Вывели на улицу и пошли с ним в отделение милиции. Сзади несли его тетради. Прохожие останавливались и глазели. А Князев... Князев вышагивал из круга — орал громко и вольно. И испытывал некое сладостное чувство, что кричит людям всю горькую правду про них. Редкое чувство, сладкое чувство, дорогое чувство. — Пугачева ведут! — кричал он. — Не видели Пугачева? Вот он — в шляпе и галстуке! — Князев смеялся. — А сзади несут чявой-то про государство. Удивительно, да? Какой еще! Ишь чяво захотел!.. Мы-то не пишем же! Да? Мы те попишем. Мы те подумаем! "Да здравствуют полудурки!" — Хорошо, что отделение милиции было рядом, а то бы Князев накричал много всякого".
"Я пришел дать вам волю" — назвал Шукшин роман о Степане Разине. Этот Пугачев в шляпе и галстуке пришел дать людям закон. Но вечное "там лучше знают" гасит все его идеалистические порывы.
А что если бы они осуществились?!
Другой вариант резкого рывка из привычной жизни Шукшин предлагает в "Пьедестале". "И это стало у Константина Смородина как болезнь: днем, на работе, рисует свои вывески, плакаты, афиши. А вечером, дома, начинает все ругать — свою работу, своих начальников, краски. Зрителя, всех и все".
Вдохновляемый женой, мечтающей вырваться в какую-то другую жизнь (редкий у Шукшина пример женщины-соратницы и помощницы), он вместо "осточертевших передовиков" целый год пишет картину "Самоубийца", которой собирается потрясти мир. "Живет человек, никто на него не обращает внимания, замечают только, что он какой-то раздражительный. Но в политику не лезет. Вдруг, в один прекрасный день, все узнают. Что этот человек — гений. Ну, не гений, крупный талант".
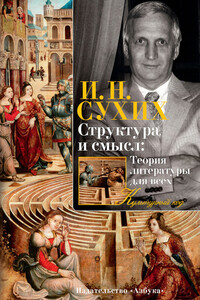
Игорь Николаевич Сухих (р. 1952) – доктор филологических наук, профессор Санкт-Петербургского университета, писатель, критик. Автор более 500 научных работ по истории русской литературы XIX–XX веков, в том числе монографий «Проблемы поэтики Чехова» (1987, 2007), «Сергей Довлатов: Время, место, судьба» (1996, 2006, 2010), «Книги ХХ века. Русский канон» (2001), «Проза советского века: три судьбы. Бабель. Булгаков. Зощенко» (2012), «Русский канон. Книги ХХ века» (2012), «От… и до…: Этюды о русской словесности» (2015) и др., а также полюбившихся школьникам и учителям учебников по литературе.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
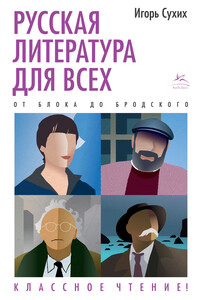
Игорь Николаевич Сухих – литературовед, доктор филологических наук, профессор Санкт-Петербургского университета, писатель, критик. Автор многочисленных исследований по истории русской литературы XIX–XX веков, в том числе книг «Проблемы поэтики Чехова», «Чехов в жизни: сюжеты для небольшого романа», «От… и до… Этюды о русской словесности», «Сергей Довлатов: время, место, судьба», «Структура и смысл: Теория литературы для всех», «Книги XX века. Русский канон» и других, а также полюбившихся школьникам и учителям учебников по литературе. Трехтомник «Русская литература для всех» (первое издание – 2013) – это путеводитель по отечественной классике, адресованный самой широкой читательской аудитории.
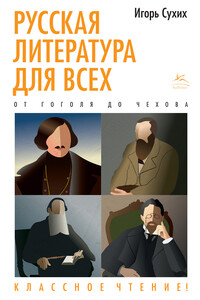
Игорь Николаевич Сухих – литературовед, доктор филологических наук, профессор Санкт-Петербургского университета, писатель, критик. Автор многочисленных исследований по истории русской литературы XIX–XX веков, в том числе книг «Проблемы поэтики Чехова», «Чехов в жизни: сюжеты для небольшого романа», «От… и до… Этюды о русской словесности», «Сергей Довлатов: время, место, судьба», «Структура и смысл: Теория литературы для всех», «Книги XX века. Русский канон» и других, а также полюбившихся школьникам и учителям учебников по литературе. Трехтомник «Русская литература для всех» (первое издание – 2013) – это путеводитель по отечественной классике, адресованный самой широкой читательской аудитории.
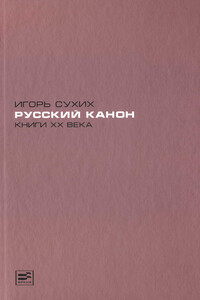
Книга профессора СПбГУ, литературоведа и критика И. Н. Сухих включает тридцать очерков о наиболее значимых произведениях отечественной прозы и драмы серебряного и советского веков – от «Вишневого сада» Чехова и «Петербурга» А. Белого до «Прощания с Матерой» В. Распутина и «Генерала и его армии» Г. Владимова. Написанная в свободной эссеистической манере, книга, несомненно, будет интересна специалистам-филологам, преподавателям школ и высших учебных заведений, школьникам и просто читателям, неравнодушным к родному слову.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
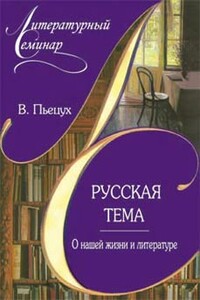
Вячеслав Пьецух — писатель неторопливый: он никогда не отправится в погоню за сверхпопулярностью, предпочитает жанр повести, рассказа, эссе. У нашего современника свои вопросы к русским классикам. Можно подивиться новому прочтению Гоголя. Тут много парадоксального. А все парадоксы автор отыскал в привычках, привязанностях, эпатажных поступках великого пересмешника. Весь цикл «Биографии» может шокировать любителя хрестоматийного чтения.«Московский комсомолец», 8 апреля 2002г.Книга известного писателя Вячеслава Пьецуха впервые собрала воедино создававшиеся им на протяжении многих лет очень личностные и зачастую эпатажные эссе о писателях-классиках: от Пушкина до Шукшина.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.