Дух Меркурий - [97]
Влияние исторических предпосылок на возникновение учения Фрейда можно проследить вполне определенно, особенно в части его главной мысли, развитой в теории вытеснения сексуальности, культурно-историческая обусловленность которой может быть продемонстрирована самым ясным образом. Фрейд, как и его современник Ницше, занимающий более видное место в духовной жизни, принадлежит к закату викторианской эпохи, не получившей пока на европейском континенте своего собственного, столь же звучного имени, хотя в германских и протестантских странах она была не менее своеобразной, чем в англосаксонских. Викторианская эпоха — это время, для которого характерно вытеснение инакомыслия, когда предпринимались судорожные попытки с помощью морализаторства искусственно продлить жизнь анемичных идеалов бюргерской добропорядочности. Эти «идеалы» были последним из уцелевших побегов религиозных представлений, общепринятых в средневековье, само существование которых было серьезно подорвано незадолго до этого, в эпоху французского Просвещения и последовавшей за ней революции. Вместе с тем выхолащивались и клонились к закату «вечные истины» прежней политики. Во всем этом было, пожалуй, некоторое забегание вперед, чем и объясняются, наверное, предпринимавшиеся на протяжении всего XIX в. судорожные усилия хоть как-то удержать идущее на убыль христианское средневековье от полного исчезновения. Политические революции были раздавлены, бюргерское общественное мнение стало непреодолимой преградой для попыток добиться морального раскрепощения, а критическая философия уходящего XVIII в. привела поначалу к оживлению систематических усилий подчинить отношение к миру требованиям средневековья. В течение XIX в., однако. Просвещение постепенно взяло верх, что выразилось в первую очередь в распространении научного материализма и рационализма.
Таково материнское лоно, вскормившее Фрейда и предопределившее особенности его духовного роста. Он обладает пристрастностью, типичной для представителя Просвещения (часто цитирует вольтеровское «ecrasez 1'infame»[788]), и с удовольствием отмечает то, что, «собственно, за всем этим стоит»: все сложные образования духовной жизни, такие, как искусство, философия и религия, подозреваются им в том, что не представляют собой «ничего, кроме» результатов вытеснения сексуального инстинкта. Это устойчивое отношение Фрейда к общепризнанным культурным ценностям, в основе своей редукционистское и негативистское, обусловлено исторически. Он смотрит так, как ему диктует его время. Лучше всего это видно в его сочинении «Die Zukunft einer Illusion»[789], где религия представлена таким образом, что полностью соответствует предрассудкам эпохи господства материализма.
Свойственное Фрейду просветительское пристрастие к негативным определениям основывается на том историческом обстоятельстве, что в викторианскую эпоху культурные ценности использовались для подтасовки картины мира в соответствии с буржуазными представлениями, и главная роль среди этих ценностей отводилась религии, которая как раз и оказывалась религией вытеснения. Именно это искаженное отношение к религии принимается Фрейдом за ее суть. В том же ключе понимается им и человек: его видимые характеристики — или же, если выражаться в викторианском стиле, его подогнанная под предписанные идеалы persona — соответственно предполагают таящийся в скрытой глубине фундамент, представляющий собой вытесненную детскую сексуальность; да, любые положительные качества или творческие способности человека имеют, по Фрейду, своим основанием нечто отрицательное, пережитое в пору его детства, что соответствует материалистическому bonmot: «Человек есть то, что он ест».
Это понимание человека, если его рассматривать в историческом плане, является геростратовской реакцией на стремление викторианской эпохи видеть все в «rosa» и изображать все «sub rosa», ибо в то время положено было думать «под сурдинку», что обернулось в конце концов неким Ницше, который в качестве орудия философствования выбрал для себя молоток. Поэтому вполне логично, что «извечные» вопросы морали перестают играть в учении Фрейда какую-либо роль. Вместо этого этические нормы понимаются как продукт договоренности, по поводу которой можно заключить, что ее вообще не было бы, не испытывай наши удрученные праотцы (а то и один из них) нужду в предписаниях, позволяющих им оградить себя от последствий собственной импотенции. С тех пор и стали распространяться (к сожалению) такие нормативные установки, закрепляясь в «сверх-Я» каждого индивида. Эта концепция, в гротескных формах противопоставляющая себя ценностно ориентированному подходу, является справедливой расплатой за тот исторический факт, что этос викторианской эпохи также был не чем иным как договорной моралью, порождением брюзгливых praeceptorum mundi[790].
Если, следуя нашему подходу, соотносить учение Фрейда с прошлым и видеть в нем одного из выразителей неприятия нарождающимся новым веком своего предшественника, века девятнадцатого с его склонностью к иллюзиям и лицемерию, с его полуправдами и фальшью высокопарного изъявления чувств, с его пошлой моралью и надуманной постной религиозностью, с его жалкими вкусами, то, на мой взгляд, можно получить о нем гораздо более точное представление, нежели, поддаваясь известному автоматизму суждения, принимать его за провозвестника новых путей и истин. Фрейд — великий разрушитель, разбивающий оковы прошлого. Он освобождает от тлетворного влияния прогнившего мира старых привязанностей. Он показывает, как можно коренным образом изменить отношение к ценностям, которое разделяли еще наши родители, например, к сентиментальной родительской лжи, что они, мол, «живут только для детей», или к представлению о благородном сыне, который «всю жизнь готов носить мать на руках», или к идеалу, согласно которому дочь «всегда поймет» отца. Ранее все эти вещи воспринимались как должное. Однако с того момента, как на семейном столе оказалась неаппетитная идея Фрейда об «инцестуозной фиксации», и собравшимся за столом предлагалось выяснить с помощью этой идеи свои отношения, немедленно проявили себя полезные сомнения, сфера распространения которых прежде была жестко ограничена соображениями здравого смысла.

Эта книга является последним прижизненным трудом Юнга, а также единственным популярным изложением его теории, адресованным самым широким кругам читателей. Используя метод «аналитической психологии» Юнга, его ближайшие сподвижники и ученики наглядно демонстрируют влияние бессознательного, опосредованное символами, на древние мифы и современное искусство, на научный поиск и человеческую жизнь от младенчества до старости.
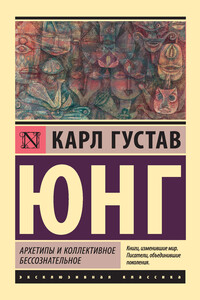
Данный том включает в себя наиболее известные работы «Архетипы коллективного бессознательного», «Концепция коллективного бессознательного» и «Психологические аспекты архетипа матери». В этих работах автор развивает основные положения аналитической психологии, подробно раскрывая перед читателем ключевые понятия своей теории и свой метод в целом.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
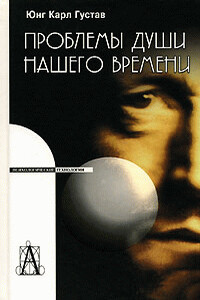
Эта книга - один из наиболее удобных входов в мир аналитической психологии Карла Густава Юнга. В самом названии книги автор намечает цель данной работы - выделить базовые проблемы современного человека и раскрыть методы их анализа и преодоления средствами аналитической психологии. Работы, включенные в издание, охватывают широчайший спектр психологических проблем, начиная с традиционных для психоанализа вопросов терапии психических расстройств и заканчивая закономерностями существования человека в обществе, труды послужили основой для создания и развития теории аналитической психологии.
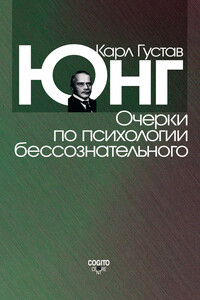
Работы, вошедшие в данную книгу, знаменуют поворотный пункт в истории аналитической психологии, здесь изложены основные положения, на которых зиждется большая часть поздних работ Карла Густава Юнга. Перевод осуществлен по 7 и 18 томам собрания сочинений Юнга, изданного Принстонским университетом.Книга адресована специалистам – психологам, философам, историкам культуры – и всем, кто интересуется вопросами аналитической психологии.
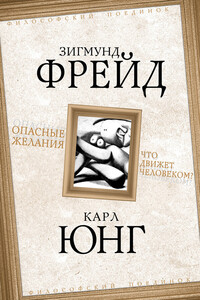
Зигмунд Фрейд и Карл Юнг – два величайших представителя аналитической психологии XX века. Фрейд был основателем этого течения, оказавшего огромное влияние на философию, социологию, антропологию, литературу и искусство двадцатого столетия. Интерес к теории Фрейда не угасает и в наши дни.Карл Юнг был верным учеником Зигмунда Фрейда и считался его «престолонаследником», однако затем между ними произошел конфликт, в результате которого Юнг покинул Фрейда. Причиной конфликта стало различное понимание мотивов поведения человека – Фрейд считал, что в его основе лежат главным образом подавленные сексуальные желания; Юнг отводил сексуальности гораздо меньшую роль.
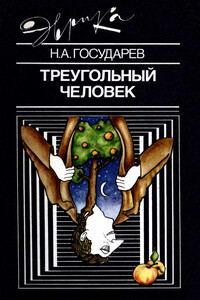
Драмы и комедии характера, феномены психологической защиты, воли, творчества иллюстрируют в книге тему типологии человека. Обсуждается проблема направленности, кризисов и тупиков психического развития.
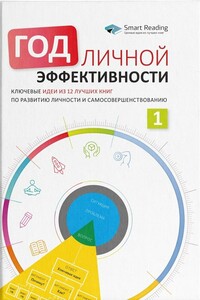
Совсем недавно считалось, что интеллект у человека один, и либо посчастливилось им обладать, либо нет. Теперь же психологи и изучающие мозг ученые выделяют до 35 видов интеллекта, и каждый из них поддается осознанному развитию. Эта книга поможет улучшить когнитивный интеллект – тот, что отвечает за все виды мыслительных процессов: восприятие, понимание, память, логику и воображение. Когнитивный интеллект помогает нам учиться, применяя для этого различные техники и инструменты и использовать знания на практике, делая нас эффективными и успешными. Проект «Год личной эффективности» придумал Михаил Иванов – сооснователь издательства «Манн, Иванов и Фербер» и создатель компании Smart Reading.
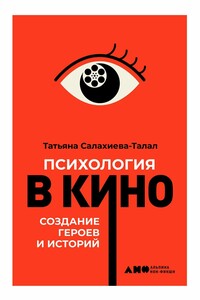
Книга, написанная автором уникального курса «Психология для сценаристов» Татьяной Салахиевой-Талал, знакомит с концепциями некоторых психологических школ и направлений, переосмысленными с точки зрения кинодраматургии. Среди них теории Фрейда и Юнга, оказавшие громадное влияние на киноискусство, гештальт-подход, которому в книге уделено особое внимание, а также новейшие мировые исследования в области социокультурных феноменов, знание которых позволит создавать актуальные для современного зрителя истории.Каждая психологическая теория адаптирована под цели кинодраматургов и интегрирована в ключевые сценарные структуры.
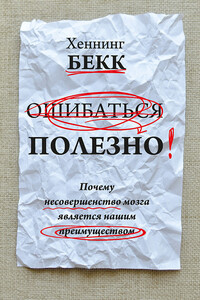
В этой книге автор показывает, что происходит за кулисами «ошибочных» мыслительных структур мозга. Как мозг использует свои заблуждения, чтобы наилучшим образом ориентироваться в социальных ситуациях, рождать идеи и создавать новые знания. При этом порой допускаются ошибки, но парадокс в том, что истинная сила мышления кроется как раз в заблуждениях и неспособности концентрироваться. Для широкого круга читателей.
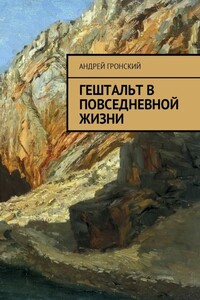
В книге в популярной форме рассказывается об одном из самых распространенных направлений гуманистической психотерапии – гештальт-терапии. В книге описано, в чем заключается помощь гештальт-терапевта в процессе психологического консультирования или психотерапии. Излагаются ключевые принципы гештальт-подхода и то, чем они могут быть полезны в повседневной жизни. Книга адресована всем, кто интересуется современными направлениями психотерапии, самопознанием и личностным ростом.
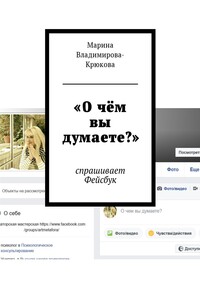
«О чём вы думаете?» — спрашивает Фейсбук. Сборник авторских миниатюр для размышлений, бесед и доброго расположения духа, в который вошли посты из соцсети.