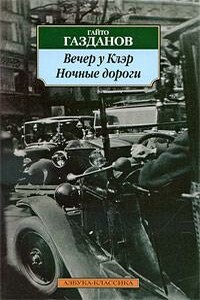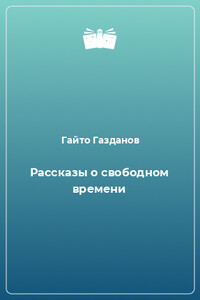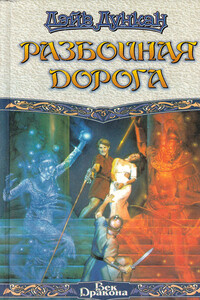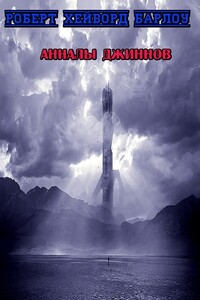Оно принимало самые различные формы, и тысячи предметов ежедневно напоминали мне о нем, и каждый раз при этом мне становилось скучно и страшно.
Мне случалось в разговоре с незнакомым человеком вдруг знать, что он скажет: но это были не те простые фразы, которые так легко предвидеть — это бывали чаще всего неожиданные и длинные периоды, иногда очень сложные…
Я нетерпеливо и напряженно ждал фразы, которую мой собеседник должен был произнести; и когда он ее произносил, я вздрагивал — и внутри меня что-то ахало и обрывалось — но через секунду легкий шум моей второй жизни начинал по-прежнему звучать. Это второе существование, несравненно более значительное — я ощущал его подчас с необыкновенной силой и ожесточением — всегда имеет звуковую окраску — и если этот шум прекратится, то я умру.
Но я не умирал: я только — на кровати, на улице Julie — чувствовал, как, точно во сне, я возникаю для жизни; и что темный мир вещей и ощущений быстро вырастает передо мной — и я снова иду в лесу, как и раньше, и узнаю забытые и знакомые тропинки, покрытые песком, синеватые цвета папоротников и многоэтажные пирамиды муравейников. Я набирал воздух и вздыхал, и силой вздоха перемещался в другие края: темный лес беззвучно рассыпался и исчезал и вот я в полях Белоруссии, у реки Свислочь, — опять забытые люди и мужики с колтунами, чудовища на порогах моего детства, чувство знания и дракон — круг, в который я возвращался столько раз.
Я проснулся однажды — мне было восемь лет, я жил на Украине; густой сад стоял перед окнами, и птица неизвестной породы прыгала по веткам вишни. Солнечный свет и жар звенели монотонным металлическим звуком, с речки кричали лягушки, и жабы раздували горла в прохладной темноте тени. Я проснулся не таким, каким заснул, и ясно увидел себя со стороны: тело, ноги, лицо, глаза. Особенно — глаза; и с тех пор, когда я подходил к зеркалу, я неизменно встречал всегда чужой, но что-то отдаленно напоминающий взгляд — безличный и жестокий. Я узнавал его у других людей — это было до ужаса знакомо; я терялся и умолкал и дракон опять появлялся передо мной.
Но когда я бывал сыт (один раз я видел диаграмму — сколько средний человек съедает за свою жизнь: несколько коров и быков, небольшое стадо баранов, множество кур, гусей и уток, зайцы, олени, свиньи, дикие кабаны и даже лось; вот только лошадь забыли почему-то, — очень любопытная диаграмма, между прочим), то эта вторая внутренняя жизнь смирялась и умолкала под грузом бифштексов и макарон. И тогда я смеялся над моими страхами и драконом; и, рассуждая на отвлеченные темы, вспоминал ученые книги и законы человеческого развития — и лишь минутами понимал, что становлюсь похожим на людей, которым все ясно: на скептиков и энтузиастов — веселых слепых и жизнерадостных инвалидов.
Потом снова наступал голод — странствования воображения: Франциск Ассизский, мудрый святой скрывался в лесу, звери бежали за ним и золотой круг над его головой разрезал тень[2].
И там, где он только что стоял, появлялось гигантское, многоконечное тело и головы со свирепыми глазами, в которых я молча узнавал человеческий взгляд дракона: он лежал на лугу, и речка катилась перед ним.
Зобастые люди появлялись и таяли в воздухе — и дракон безмерно рос и увеличивался с тихим скрежетом. Он приближался ко мне, раздуваясь и поднимаясь вверх — и я видел глаза в зеркале.
Зеленый фонарь с улицы светил в мое окно, и в лучистом сумраке зимы звенели утренние трамваи.