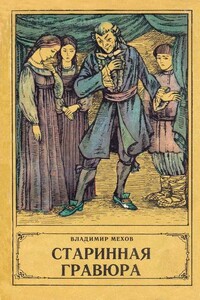Дождаться утра - [123]
А потом шел какой-то здоровенный, как вагон, грузовик. Остановил его отец, залез в кузов; а когда я полезла за ним, отцепил мои руки и крикнул шоферу. Дернул так, чуть не упала. Скаженный человек! Сколько живу с ним — и всегда не по-людски у него все, даже проститься не дал. Скаженный…
Мать говорила без умолку. Она рассказывала эпизод за эпизодом, несколько раз повторяла одно и то же, легко бранила отца. И эта беззлобная брань ей доставляла удовольствие. Ругая отца, она, видимо, возвращала себя в ту довоенную, мирную домашнюю обстановку, когда можно было вот так по делу или без дела пожурить отца, а он пропустит ее незлые слова мимо ушей. И все будет идти так же своим чередом, как и шло. Но мать в этом облегчала душу, выговаривалась, показывала, что она хозяйка в доме. А отец каким был, таким и остался, — слушает ее брань с легкой, доброй усмешкой. «Наша мать сегодня сердитая, — заговорщицки подмигнет он нам, детям, — давайте помолчим». Но молчал до тех пор, пока мать не переступала, а если она увлекается и переступает, то он становится скаженным, и тогда уже надо было умолкнуть матери. Так и шла согласная довоенная жизнь моих родителей, и мать не знала ничего лучше этой жизни и, наверно, ничего другого не хотела желать и теперь, хотя бы в этом рассказе об отце, пыталась вернуть себя в ту самую жизнь, в которой «все не по-людски», «все не как у других».
Рассказывая, мать не отделяла себя от отца, а мне хотелось знать больше о нем, как он выглядит, во что одет, что говорил. Она односложно и с легким раздражением отвечала на мои вопросы.
— Да как? Худой сильно А гак ничего.
— Постарел?
— Нет, только усы другие.
А я смотрел на фотографию, и отец мне казался страшно постаревшим, просто стариком. Может быть, из-за усов этих? И совсем не чапаевских. Усы устало свисали вниз, и отцу, видно, было не до них.
— Да как же он может быть одет? — удивлялась мать. — Как все солдаты. Гимнастерка, галифе. Все новое. «Если, — говорит, — новое, то, значит, опять на фронт». Да и куда же их еще, сердечных…
На фотографии отец был без погон, они появились в армии недавно, после Сталинграда. «Значит, фотографировался осенью», — отметил я.
— А какие у него погоны?
— А бес их знает! Вон Сережка пусть скажет. Какие-то там лычки у него есть.
— Я же говорил, — отозвался Сергей, — он сержант, у него три красные нашивки.
— А обувь?
— В сапогах. Такие добрые сапоги. Тебе такие бы на осень…
И мать вновь начала беззлобно поругивать отца.
— Ведь он такой же — простая душа. Другие после госпиталя как-то пристраиваются, а он опять в это пекло. Ну да ладно, не знал, что мы живы, писал письма, а они пропадали. Так можно было после госпиталя приехать и поискать нас. Отпуск ему на выздоровление был, а он не взял.
На столе коптила семилинейная лампа без стекла. Мы два раза поужинали. Как только я приехал домой, мать сварила жидкий кулеш из пшена и заправила его тушенкой, а потом уже поздно вечером пили чай с отцовским сахаром и хлебом. Сергей с осоловелыми глазами сидел на койке и, как и я, завороженно слушал мать. Иногда он поправлял ее: «Нет, он сначала сказал, что Гитлеру скоро крышка, а потом уже — войны еще надолго хватит. Ты забыла, а я помню».
Меня тоже немного удивляли рассуждения матери. Почему она запомнила одно и не говорит о другом? Я начинал спорить с ней, а она злилась и сердито отвечала:
— Глупый ты, посмотри, куда враг зашел? Только от Харькова да с Кавказа погнали его. А еще Украина, Белоруссия. Это если только пешком идти, и то сколько времени надо? А ведь его выбивать надо…
«Ну что с ней спорить, и что она, женщина, в военном деле понимает?» — думал я и переводил разговор на другое. И все же в этот вечер и ночь я об отце узнал все, что он успел рассказать о себе матери и Сергею.
Отец был ранен еще осенью сорок второго где-то на Кавказе. («Назвал какой-то город, да я не запомнила», — обронила мать.) Лежал в госпитале в Махачкале, в Баку, долечивался уже весной в Красноводске. Как только закончились бои в Сталинграде, стал писать письма по старому нашему адресу. Ответа не было. Потом писал на райисполком, горвоенкомат, куда только не обращался. Как выздоравливающего, которому некуда было ехать в отпуск, определили отца в какую-то команду возить из Средней Азии на фронт пополнение в части. Других, у кого были семьи, отправляли долечиваться домой на месяц, два, а то и три, а отец попал в эту команду.
Раза два съездил с солдатами куда-то за Воронеж, и вот теперь уже ехал сам на фронт с воинской частью.
Говорили отец с матерью и о Викторе. У отца с ним прервалась связь примерно тогда же, когда и у нас, — в мае сорок второго. «Он где-то на Харьковском направлении потерялся. — Мать грустно умолкла, подвернула в лампе сгоревший фитиль, стряхнула с него нагар и тихо добавила: — Там где-то и Витя наш… Может, и живой, как отец, да не добьется до нас никак».
Ночь за окном уже побелела, а мать так и не гасила лампу, Она, конечно, и не спала. Подштопала мою трактористскую робу. (Хотела еще с вечера постирать ее, да я не дал. Зачем? К вечеру такая же будет!)
Сейчас она суетливо собирала мне харчи. Положила в сумку добрый кусок хлеба, немного сахару, помидоры, огурцы, где-то достала два яблока. Покончив с харчами, отрезала суровой ниткой от бруска кусочек мыла.

Известный прозаик и журналист рассказывает о встречах с политиками от Хрущева и Маленкова до Горбачева и Шеварнадзе, поэтах Твардовским, Симоновым.

Роман состоит из четырех повестей, сюжетно самостоятельных, но объединенных рядом общих персонажей, общей внутренней темой. В произведении действуют люди разных профессий и возрастов, и все они находятся в духовной атмосфере, проникнутой идеологией рабочего класса. Творческая удача автора — образ старого рабочего Ивана Митрошина. Жизнь и поступки всех других героев автор оценивает высокими моральными критериями Митрошина, его идейной убежденностью, его поступками.
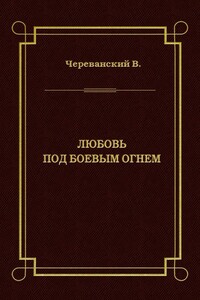
Череванский Владимир Павлович (1836–1914) – государственный деятель и писатель. Сделал блестящую карьеру, вершиной которой было назначение членом госсовета по департаменту государственной экономии. Литературную деятельность начал в 1858 г. с рассказов и очерков, напечатанных во многих столичных журналах. Впоследствии написал немало романов и повестей, в которых зарекомендовал себя хорошим рассказчиком. Также публиковал много передовых статей по экономическим и другим вопросам и ряд фельетонов под псевдонимами «В.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В основе хроники «Два года из жизни Андрея Ромашова» лежат действительные события, происходившие в городе Симбирске (теперь Ульяновск) в трудные первые годы становления Советской власти и гражданской войны. Один из авторов повести — непосредственный очевидец и участник этих событий.

Отряд красноармейцев объезжает ближайшие от Знаменки села, вылавливая участников белогвардейского мятежа. Случайно попавшая в руки командира отряда Головина записка, указывает место, где скрывается Степан Золотарев, известный своей жестокостью главарь белых…
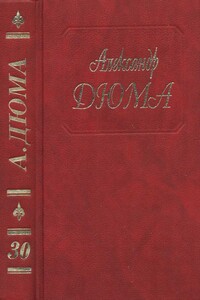
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.