Дорога во все ненастья. Брак - [18]
В туалете было жарко из-за того, что двойные рамы с его окон не снимались круглый год.
Невозможно было даже открыть форточку, фрамуга которой оставалась заклеенной еще с прошлого, а может даже с позапрошлого, если судить по толщине пыли на заклейке, года.
Парень расстегнул робу.
Под ней, на его голой худой груди висел медный крестик на суровой нитке.
Увидев мой взгляд на крестик, он сказал:
– Раньше у меня серебренный был, да я его пропил, – видимо, гордость за себя, была той немногочисленной ношей, которую пропить оказывается невозможно.
Во всяком случае, даже то, что он пропил крест, парень сообщил мне с той же потаенной гордостью:
Грех, конечно.
Может из-за этого, я потом триппер подхватил, – про триппер было сказано с теми же гордыми интонациями, как и про крест:
– Но ничего…
И мне пришло в голову спросить парня.
Все равно, в моем положении и в данном месте, спросить об этом больше было у некого:
– Что страшнее: ад или триппер?
Парень задумался, и довольно надолго. Я бы и сам задумался – задай мне кто-нибудь такой сложный вопрос.
Потом, наверное, взвесив все за и против, он сказал:
– Ад, конечно. Но, в смысле возможности – триппер в наших местах более вероятен…Художник Андрей Каверин
…Олеся смотрела сквозь меня, как Петр 1 с памятника Церетели.
Серьезно, и, в тоже время, ничего не понимая.
Этим она была слегка курьезна.
Впрочем, памятники Церетели курьезны тоже, хотя это – никаким образом не влияет ни на чье отношение к жизни.
Она смотрела на меня, а я молчал, потому, что все, что можно и нужно было сказать – я сказал в первую же минуту. Иногда умным помолчать почти так же полезно, как и дуракам.
Во всяком случае, это молчание дало возможность рассмотреть девушку, которой мне пришлось принести недобрую весть. Того, что самую недобрую, страшную весть, эта девушка принесет себе сама, в тот момент я не знал.
«Стройная, довольно симпатичная, светловолосая. На любой станции метро, таких можно встретить десяток,» – я поймал себя на мысли, что рассматриваю ее отстраненно, почти безразлично, так, как рассматривают картинки в журналах, читаемых в электричках, – «Самая обыкновенная девушка.»
Пожалуй, одно – то, что это девушка связана с моим другом, то, что она выбрала в спутники именно Василия, делало ее необычайно и непривычно для незнакомой девушки, живой.
Живой.
И очень необыкновенной девушкой.
Может, вообще, неповторимыми нас делает именно то, что мы выбираем в жизни.
И то, что в жизни выбирает нас.Почему-то я искал в ней хоть что-нибудь порочное.
Немного порока делает терпимой даже самую несносную добродетель.
И не находил.…Первое, что я услышал от нее, открывшей мне дверь, было:
– Простите, но я вас не знаю, – и мне пришлось ответить тем, что пришло в голову:
– В том, что меня не знают люди – проблемы нет
Проблема в том, что я не знаю людей.– А это – проблема? – ее некокетство, кокетством не было.
– Конечно.
Когда не знаешь других – не с чем сравнивать себя.– Проходите, – тихо проговорила Олеся, когда молчание себя исчерпало, – Не на лестничной же клетке, вам обвинять меня в том, что я наркоманка.
Она была явно не простушкой, f то, сколько ей лет, я даже не попытался выяснить. Легче у покойника узнать, когда он умер, чем у женщины – когда она родилась.
Во всяком случае, Олеся казалась совершеннолетней, и это снимало с Василия, по крайней мере, одну проблему.
Я вошел в довольно скромно и неприметно обставленную прихожую, даже забыв сказать Олесе, что ни в чем ее не обвиняю. Разве я мог знать, что всего через несколько дней, за считанные часы жизни этой девушки, я буду готов отдать все, что у меня есть. И что часы уже запущены…
…Я видел смерть, и даже был, пусть вынужденным не по своей воле, соучастником в ее жестокой работе.
И воспоминание об этом наедине с собой, часто заставляет меня мрачнеть.
Но смерть никогда не спрашивала моего совета.
А я никогда не обращался за советами к ней.
И надеялся на то, что встретимся мы только в конце моего пути.
Над тем, что мне, еще полному сил, замыслов и перспектив, возможно, придется вступить с ней в борьбу, я никогда не задумывался.
Как, наверное, не задумывались и мои друзья.А, может, задумывались.
Во всяком случае, помню, как однажды Петя Габбеличев спросил Гришу Керчина:
– Ты боишься смерти?
– Нет, – ответил Григорий.
– Почему?
– Потому, что когда она придет – меня уже не будет…Выходит так, что мы, люди, мало, что знаем о смерти. Утешает лишь то, что о жизни мы знаем еще меньше…
…А еще совсем не давно, для меня, сегодняшнее утро – было всего лишь почти обычным утром.
Таким же далеким от реальности, как и я сам.
Впрочем, мы живем в стране, где есть еще более далекие от реальности реальные люди……Однажды, по службе, мне пришлось разговаривать с заместителем министра, и тот, демонстрируя постперестроечный демократизм, задушевно положив мне свою замминистрскую руку на плечо – при этом я явно почувствовал, что душа у зама где-то в плечах – сказал.
Сказал тоном, не допускающим сомнений в том, что он, как замминистра, допускает сомнения в моей юношеской зрелости:
– Вы, поэты, так далеки от реальности, – на это, я промолчал, но про себя, в ответ допустил сомнение в том, кто именно дальше от реальности – поэты или заместители министров?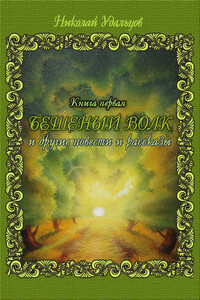
Сборник повестей и рассказов – взгляд на проблемы нашего времени с позиции молодого и зрелого человека, мужчины и женщинны, ребенка и исторического персонажа, эпох – от наших дней до средневековья…
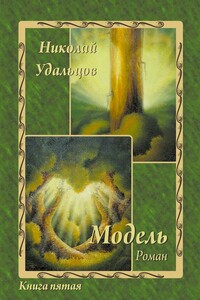
…В этой истории, распавшейся на несколько повествований, я буду говорить не о творчестве, а о мужчине и женщинах. Так что тот, кто увидит в этих историях рассказ о творчестве, поймет меня правильно… Конец каждого из этих рассказов был не вполне приятен и понятен для меня. Но так уж устроена жизнь, что для того, чтобы сделать конец иным, нужно снова начинать с самого начала…

История любви, в которой, кроме ответов на многие вопросы, стоящие перед нами, сфомулирована Российская Национальная идея…

История, в которой больше обдуманного, чем выдуманного.Герои, собравшиеся вместе, пришли из прошлого, настоящего и будущего и объеденившись, путешествуют во времени и пространстве в поисках ответов на вечные вопросы, стоящие перед людьми.И – находят эти ответы…
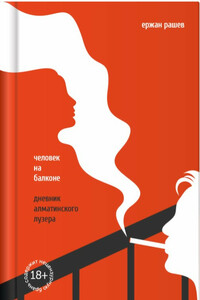
«Человек на балконе» — первая книга казахстанского блогера Ержана Рашева. В ней он рассказывает о своем возвращении на родину после учебы и работы за границей, о безрассудной молодости, о встрече с супругой Джулианой, которой и посвящена книга. Каждый воспримет ее по-разному — кто-то узнает в герое Ержана Рашева себя, кто-то откроет другой Алматы и его жителей. Но главное, что эта книга — о нас, о нашей жизни, об ошибках, которые совершает каждый и о том, как не относиться к ним слишком серьезно.

Петер Хениш (р. 1943) — австрийский писатель, историк и психолог, один из создателей литературного журнала «Веспеннест» (1969). С 1975 г. основатель, певец и автор текстов нескольких музыкальных групп. Автор полутора десятков книг, на русском языке издается впервые.Роман «Маленькая фигурка моего отца» (1975), в основе которого подлинная история отца писателя, знаменитого фоторепортера Третьего рейха, — книга о том, что мы выбираем и чего не можем выбирать, об искусстве и ремесле, о судьбе художника и маленького человека в водовороте истории XX века.
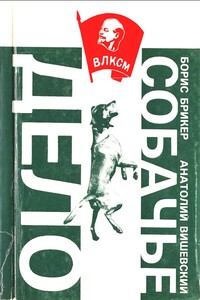
15 января 1979 года младший проходчик Львовской железной дороги Иван Недбайло осматривал пути на участке Чоп-Западная граница СССР. Не доходя до столба с цифрой 28, проходчик обнаружил на рельсах труп собаки и не замедленно вызвал милицию. Судебно-медицинская экспертиза установила, что собака умерла свой смертью, так как знаков насилия на ее теле обнаружено не было.

Восточная Анатолия. Место, где свято чтут традиции предков. Здесь произошло страшное – над Мерьем было совершено насилие. И что еще ужаснее – по местным законам чести девушка должна совершить самоубийство, чтобы смыть позор с семьи. Ей всего пятнадцать лет, и она хочет жить. «Бог рождает женщинами только тех, кого хочет покарать», – думает Мерьем. Ее дядя поручает своему сыну Джемалю отвезти Мерьем подальше от дома, в Стамбул, и там убить. В этой истории каждый герой столкнется с мучительным выбором: следовать традициям или здравому смыслу, покориться судьбе или до конца бороться за свое счастье.

Взглянуть на жизнь человека «нечеловеческими» глазами… Узнать, что такое «человек», и действительно ли человеческий социум идет в нужном направлении… Думаете трудно? Нет! Ведь наша жизнь — игра! Игра с юмором, иронией и безграничным интересом ко всему новому!
