Доминик - [57]
Ничто не могло быть сладостнее, мучительнее и опаснее, чем это странное сообщничество, заставлявшее Мадлен тратить силы в тщетных попытках вернуть мне здоровье. Так продолжалось много месяцев, может быть, год – мне трудно сказать в точности, сколько именно времени: таким смутным и неспокойным был этот период, который оставил у меня в памяти лишь неопределенное ощущение величайшего и неизбывного смятения, но не был отмечен сколько-нибудь существенными событиями.
Она собралась на воды в Германию.
– Вы ехать не должны ни в коем случае, – сказала она, – это было бы крайне неудобно и для вас, и для меня.
То был на моей памяти первый случай, когда ее озаботила собственная репутация. Неделю спустя после ее отъезда пришло письмо, исполненное удивительного ума и доброты. Я не ответил, повинуясь ее просьбе. «Я буду издали делить с вами ваше одиночество, – писала она, – настолько, насколько возможно. И во все время своего отсутствия через равные промежутки она с обычным терпением писала ко мне; так она вознаграждала меня за то, что, повинуясь ей, я остался в Париже. Она знала, что скука и одиночество – худые советчики, и хотела, чтобы, оставшись наедине с воспоминаниями, я все-таки получал бы время от времени ощутимые знаки ее присутствия.
Дата ее возвращения была мне известна. Я поспешил к ней в тот же день. Меня принял господин де Ньевр, которого я не мог видеть более без ощущения живейшей неприязни. Может статься, я был крайне несправедлив, и мне хочется думать, что невыгодное мнение, которое у меня составилось, было ошибочным; но о супруге госпожи де Ньевр я мог судить на основании домыслов – отнюдь не беспристрастных, – и в домыслах этих – справедливо или нет – мне представлялось, что он относится ко мне холодно, недоверчиво, почти недружелюбно. Они приехали под утро, сказал он. Жюли утомилась, ей нездоровится, сейчас она спит. Госпожа де Ньевр не сможет принять меня. Мадлен вошла, когда я слушал эти объяснения, и господин де Ньевр тотчас удалился.
Когда я пожимал руку моему отважному другу, ради меня подвергавшемуся таким опасностям, меня осенила внезапная мысль, словно подсказанная осторожностью:
– Я решил уехать, постранствую немного, – сказал я, коротко поблагодарив ее за доброту, – Что вы об этом думаете?
– Если вам кажется, что это пойдет на пользу, поезжайте, – отвечала она, выказав лишь некоторое удивление.
– Бог весть, на пользу ли! Во всяком случае, попробовать стоит.
– Попробовать-то, возможно, стоит, – проговорила Мадлен, призадумавшись, – но в этом случае как же мы с вами будем сноситься?
– Как? Да так же, как прежде, если вы согласитесь.
– Нет, нет, этого не будет и быть не может. Писать вам в Париж из Германии я могла, но из Парижа… неведомо куда, – сказала она, – вы должны понять, это было бы безрассудством.
Тягостная перспектива провести несколько месяцев вдали от Мадлен, не имея даже вестей о ней, вначале поколебала меня. Но затем мне на ум пришла другая мысль, под воздействием которой я решился на это последнее средство и сказал Мадлен:
– Будь по-вашему, я смирюсь с невозможностью получать вести от вас, разве что Оливье напишет, а он не очень-то исправен в переписке. Вы тысячекратно доказали мне свое великодушие, и я краснею за себя. Чтобы показать вам, что достоин вашей доброты, мне остается одно – смириться. Вам судить, дорого ли обойдется мне эта попытка.
– Так вы точно едете? – переспросила Мадлен, все еще не решаясь поверить.
– Завтра, – отвечал я. – Прощайте.
– В добрый час, – сказала она, сдвинув брови, отчего лицо ее приняло странное выражение, – и научи вас боже!
Наутро я и в самом деле был в карете. Оливье поручился честью, что будет писать, и сдержал обещание настолько, насколько позволяла его неисцелимая лень. Через него я знал, как чувствует себя Мадлен. Мадлен, возможно, тоже знала, что ей нечего опасаться за жизнь путешественника, но и только.
Не буду рассказывать об этом путешествии, самом великолепном и самом бесплодном из всех, какие мне случалось совершать. Есть края на земле, при воспоминании о которых я чувствую себя как бы униженным оттого, что сделал их свидетелями столь заурядных горестей и столь малодушных слез. Мне вспоминается день, когда я плакал горько и простодушно, как ребенок, ничуть не стыдящийся слез, – на берегу моря, некогда видевшего чудеса, которые творили не боги, а люди. Я был один и, погрузив ноги в песок, сидел на теплом от солнца камне скалы; на ней еще сохранились медные кольца, к которым во время оно привязывали суда. Все вокруг было пустынно – и этот берег, покинутый историей, и это море без единого паруса. Между небом и водою реяла белая птица, хрупкий разлет крыльев рисовался на недвижной синеве неба и отражался в морской глади. В этом уголке мира, отмеченном неповторимой судьбой, лишь я один представлял нынешнего человека, во всем его ничтожестве и величии. Я вверил ветру имя Мадлен, выкрикнул что было мочи, чтобы его без конца повторяли звонкие прибрежные скалы, но рыданье перехватило мне горло, и в сердечной муке я спрашивал себя, неужели люди, которые жили две тысячи лет назад, столь бесстрашные, столь великие, столь могучие, любили так же, как мы!
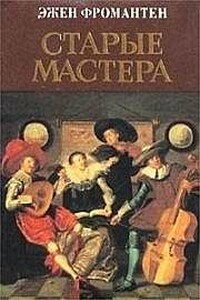
Книга написана французским художником и писателем Эженом Фромантеном (1820–1876) на основе впечатлений от посещения художественных собраний Бельгии и Голландии. В книге, ставшей блестящим образцом искусствоведческой прозы XIX века, тонко и многосторонне анализируется творчество живописцев северной школы — Яна ван Эйка, Мемлинга, Рубенса, Рембрандта, «малых голландцев». В книге около 30 цветных иллюстраций.Для специалистов и любителей изобразительного искусства.

Книга представляет собой путевой дневник писателя, художника и искусствоведа Эжена Фромантена (1820–1876), адресованный другу. Автор описывает свое путешествие из Медеа в Лагуат. Для произведения характерно образное описание ландшафта, населенных пунктов и климатических условий Сахары.
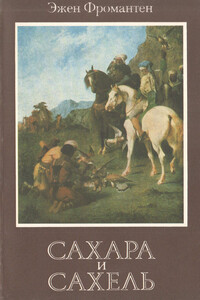
В однотомник путевых дневников известного французского писателя, художника и искусствоведа Эжена Фромантена (1820–1876) вошли две его книги — «Одно лето в Сахаре» и «Год в Сахеле». Основной материал для своих книг Фромантен собрал в 1852–1853 гг., когда ему удалось побывать в тех районах Алжира, которые до него не посещал ни один художник-европеец. Литературное мастерство Фромантена, получившее у него на родине высокую оценку таких авторитетов, как Теофиль Готье и Жорж Санд, в не меньшей степени, чем его искусство живописца-ориенталиста, продолжателя традиций великого Эжена Делакруа, обеспечило ему видное место в культуре Франции прошлого столетия. Книга иллюстрирована репродукциями с картин и рисунков Э. Фромантена.
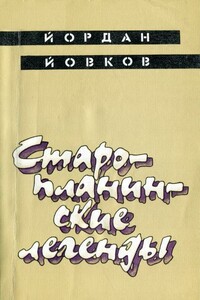
В книгу вошли лучшие рассказы замечательного мастера этого жанра Йордана Йовкова (1880—1937). Цикл «Старопланинские легенды», построенный на материале народных песен и преданий, воскрешает прошлое болгарского народа. Для всего творчества Йовкова характерно своеобразное переплетение трезвого реализма с романтической приподнятостью.

«Много лет тому назад в Нью-Йорке в одном из домов, расположенных на улице Ван Бюрен в районе между Томккинс авеню и Трууп авеню, проживал человек с прекрасной, нежной душой. Его уже нет здесь теперь. Воспоминание о нем неразрывно связано с одной трагедией и с бесчестием…».
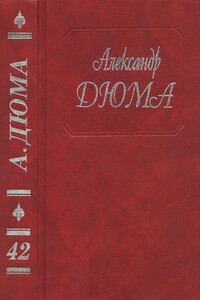
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
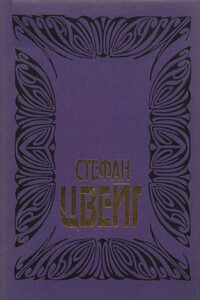
Собрание сочинений австрийского писателя Стефана Цвейга (1881—1942) — самое полное из изданных на русском языке. Оно вместило в себя все, что было опубликовано в Собрании сочинений 30-х гг., и дополнено новыми переводами послевоенных немецких публикаций. В первый том вошел цикл новелл под общим названием «Цепь».

Перед вами юмористические рассказы знаменитого чешского писателя Карела Чапека. С чешского языка их перевел коллектив советских переводчиков-богемистов. Содержит иллюстрации Адольфа Борна.
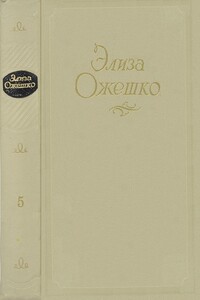
В 5 том собрания сочинений польской писательницы Элизы Ожешко вошли рассказы 1860-х — 1880-х годов:«В голодный год»,«Юлианка»,«Четырнадцатая часть»,«Нерадостная идиллия»,«Сильфида»,«Панна Антонина»,«Добрая пани»,«Романо′ва»,«А… В… С…»,«Тадеуш»,«Зимний вечер»,«Эхо»,«Дай цветочек»,«Одна сотая».

Белая и Серая леди, дамы в красном и черном, призрачные лорды и епископы, короли и королевы — истории о привидениях знакомы нам по романам, леденящим душу фильмам ужасов, легендам и сказкам. Но однажды все эти сущности сходят с экранов и врываются в мир живых. Бесплотные тени, души умерших, незримые стражи и злые духи. Спасители и дорожные фантомы, призрачные воинства и духи старых кладбищ — кто они? И кем были когда-то?..
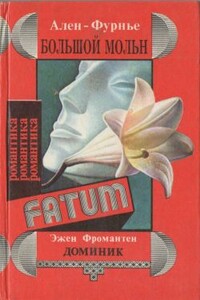
«Большой Мольн» (1913) — шедевр французской литературы. Верность себе, благородство помыслов и порывов юности, романтическое восприятие бытия были и останутся, без сомнения, спутниками расцветающей жизни. А без умения жертвовать собой во имя исповедуемых тобой идеалов невозможна и подлинная нежность — основа основ взаимоотношений между людьми. Такие принципы не могут не иметь налета сентиментальности, но разве без нее возможна не только в литературе, но и в жизни несчастная любовь, вынужденная разлука с возлюбленным.
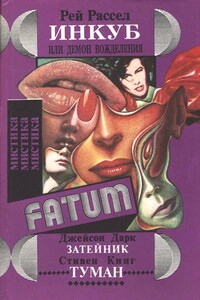
Человек-зверь, словно восставший из преисподней, сеет смерть в одном из бразильских городов. Колоссальные усилия, мужество и смекалку проявляют специалисты по нечистой силе международного класса из Скотланд-Ярда Джон Синклер и инспектор Сьюко, чтобы прекратить кровавые превращения Затейника.