Доминик - [50]
Я увидел, что вокруг Мадлен образовался оживленный кружок, и подошел ближе. Я расслышал слова, которые обожгли меня огнем; я ревновал.
В ревности не сознаются; я, однако же, не стану отрекаться от такого рода ощущений. Из любого унижения должно извлечь урок, и унижение, которое я в тот миг изведал, открыло мне немало истин; оно могло бы напомнить мне, если бы я вдруг забыл, что любовь эта, восторженная, несбыточная, безысходная, немного напыщенная и весьма склонная к горделивому самолюбованию, не столь уж значительно возвышается над уровнем обычных страстей, что она не хуже их и не лучше, и единственная черта, которая с виду отличает ее от них, – несколько большая степень недосягаемости. Чуть больше возможностей – и ей неминуемо пришлось бы сойти с пьедестала, на который ее вознесла гордыня; в нашем мире есть немало вещей, превосходство которых зиждется на их неразумности либо незавершенности, и любовь моя была из их числа, а потому, как знать, что сталось бы с нею, будь она более рассудительной или менее безответной?
– Вы не танцуете, я вижу, – сказала Мадлен чуть позже, когда в очередной раз я оказался поблизости от нее, что случалось часто, хотя и не по моей воле.
– Нет, и не буду, – отвечал я.
Даже со мною? – спросила она с некоторым удивлением.
– Даже с вами.
– Как угодно, – сказала Мадлен, отвечая холодным взглядом на мою хмурую мину.
За весь вечер я не обменялся с нею ни единым словом и не подходил близко, хотя старался по возможности не терять ее из виду.
Оливье приехал лишь после полуночи. Я стоял подле Жюли, которая больше не танцевала, да и вначале танцевала с крайней неохотой, и беседовал с нею, когда он вошел, спокойный, непринужденный, с улыбкой на устах, вооружившись тем прямо направленным взглядом, которым он прикрывался, словно выставленной вперед шпагой, всякий раз, когда оказывался среди незнакомых лиц, особенно женских. Он подошел к Мадлен, пожал ей руку. Я слышал, как он извинился за столь позднее появление; затем он обошел гостиную, поклонился двум-трем женщинам, с которыми был знаком, подошел к Жюли и, с бесцеремонностью родственника опустившись в кресло рядом с нею, проговорил:
– Мадлен одета к лицу… И ты тоже одета к лицу, милая Жюли, – прибавил он, не оглядев даже ее наряда, и тем же устало-скучающим тоном продолжал: – Только вот из-за этих розовых бантов ты выглядишь смуглее, чем следует.
Жюли не шевельнулась. Вначале она как будто не слышала, потом медленно перевела на кузена матовую эмаль своих иссиня-черных глаз и на несколько мгновений задержала на нем испытующий взгляд, способный пересилить даже постоянную невозмутимость Оливье.
– Не угодно ли вам проводить меня к сестре? – сказала она мне, вставая.
Я исполнил ее желание и тотчас поспешил вернуться к Оливье.
– Ты обидел Жюли, – сказал я.
– Может быть, но Жюли меня раздражает.
И он повернулся ко мне спиной, чтобы положить конец расспросам.
У меня хватило мужества – впрочем, было ли это мужеством? – остаться на балу до самого конца. Я испытывал потребность еще раз увидеть Мадлен почти с глазу на глаз, чтобы острее ощутить, что она моя, когда уйдут все эти люди, с которыми мне приходилось как бы делить ее. Я уговорил Оливье подождать меня, ссылаясь, впрочем, на то, что ему следует загладить поздний приход. Удачный или неудачный, этот последний аргумент, казалось, подействовал, хотя и не обманул Оливье. Сейчас мы переживали один из тех периодов обоюдной скрытности, которые придавали нашей дружбе, при всей неизменной ее проницательности, на редкость неровный и капризный характер. Со времени нашего отъезда в Осиновую Рощу, и особенно со времени возвращения в Париж, Оливье, казалось, решил снять опеку с моих действий независимо от того, что думал он о моем поведении. Был четвертый или пятый час утра. Мы оба словно потеряли счет времени, засидевшись в малой гостиной, где еще оставалось несколько завзятых игроков. Когда же, не слыша никаких звуков из большой гостиной, мы наконец вышли туда, там уже не было ни музыкантов, ни танцующих, – никого. Только госпожа де Ньевр сидела в глубине огромной пустой залы, оживленно беседуя с Жюли, которая кошечкой свернулась в креслах. Наше появление в безлюдной гостиной в такой час и после столь долгой и столь бессмысленно проведенной ночи вызвало у Мадлен возглас удивления. Она была утомлена. Усталость лежала синевой вокруг ее милых глаз и придавала им особый блеск, остающийся обычно после допоздна затянувшихся празднеств. Господин де Ньевр еще сидел за карточным столом, так же как и господин д'Орсель. С Мадлен не было никого, кроме Жюли, со мною – никого, кроме Оливье, которого я держал под руку. Свечи угасали. Красноватый полумрак рассеивался из-под люстры, превращался в полосу светящегося тумана, состоящего из невесомой ароматной пыли и неосязаемой бальной духоты. На мебели, на коврах лежали лепестки цветов, распавшиеся букеты, забытые веера и бальные книжечки, куда только что записывали кадрили. Со двора выезжали последние экипажи, я слышал, как щелкали, поднимаясь, подножки и с сухим стуком опускались стекла.
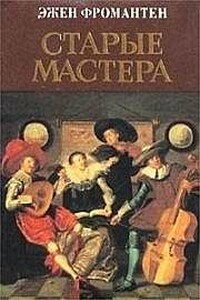
Книга написана французским художником и писателем Эженом Фромантеном (1820–1876) на основе впечатлений от посещения художественных собраний Бельгии и Голландии. В книге, ставшей блестящим образцом искусствоведческой прозы XIX века, тонко и многосторонне анализируется творчество живописцев северной школы — Яна ван Эйка, Мемлинга, Рубенса, Рембрандта, «малых голландцев». В книге около 30 цветных иллюстраций.Для специалистов и любителей изобразительного искусства.

Книга представляет собой путевой дневник писателя, художника и искусствоведа Эжена Фромантена (1820–1876), адресованный другу. Автор описывает свое путешествие из Медеа в Лагуат. Для произведения характерно образное описание ландшафта, населенных пунктов и климатических условий Сахары.
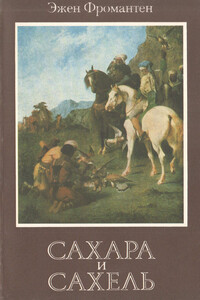
В однотомник путевых дневников известного французского писателя, художника и искусствоведа Эжена Фромантена (1820–1876) вошли две его книги — «Одно лето в Сахаре» и «Год в Сахеле». Основной материал для своих книг Фромантен собрал в 1852–1853 гг., когда ему удалось побывать в тех районах Алжира, которые до него не посещал ни один художник-европеец. Литературное мастерство Фромантена, получившее у него на родине высокую оценку таких авторитетов, как Теофиль Готье и Жорж Санд, в не меньшей степени, чем его искусство живописца-ориенталиста, продолжателя традиций великого Эжена Делакруа, обеспечило ему видное место в культуре Франции прошлого столетия. Книга иллюстрирована репродукциями с картин и рисунков Э. Фромантена.
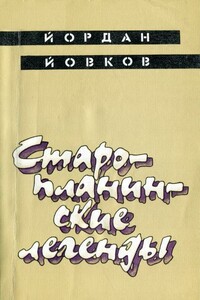
В книгу вошли лучшие рассказы замечательного мастера этого жанра Йордана Йовкова (1880—1937). Цикл «Старопланинские легенды», построенный на материале народных песен и преданий, воскрешает прошлое болгарского народа. Для всего творчества Йовкова характерно своеобразное переплетение трезвого реализма с романтической приподнятостью.

«Много лет тому назад в Нью-Йорке в одном из домов, расположенных на улице Ван Бюрен в районе между Томккинс авеню и Трууп авеню, проживал человек с прекрасной, нежной душой. Его уже нет здесь теперь. Воспоминание о нем неразрывно связано с одной трагедией и с бесчестием…».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
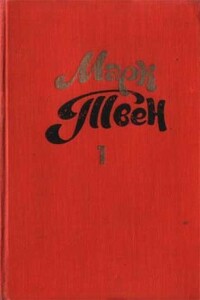
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
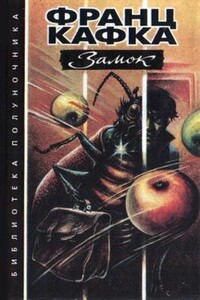
Виртуозно переплетая фантастику и реальность, Кафка создает картину мира, чреватого для персонажей каким-то подвохом, неправильностью, опасной переменой привычной жизни. Это образ непознаваемого, враждебного человеку бытия, где все удивительное естественно, а все естественное удивительно, где люди ощущают жизнь как ловушку и даже природа вокруг них холодна и зловеща.

Белая и Серая леди, дамы в красном и черном, призрачные лорды и епископы, короли и королевы — истории о привидениях знакомы нам по романам, леденящим душу фильмам ужасов, легендам и сказкам. Но однажды все эти сущности сходят с экранов и врываются в мир живых. Бесплотные тени, души умерших, незримые стражи и злые духи. Спасители и дорожные фантомы, призрачные воинства и духи старых кладбищ — кто они? И кем были когда-то?..
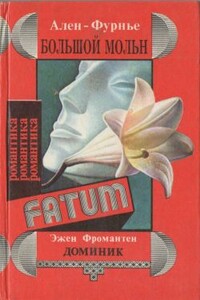
«Большой Мольн» (1913) — шедевр французской литературы. Верность себе, благородство помыслов и порывов юности, романтическое восприятие бытия были и останутся, без сомнения, спутниками расцветающей жизни. А без умения жертвовать собой во имя исповедуемых тобой идеалов невозможна и подлинная нежность — основа основ взаимоотношений между людьми. Такие принципы не могут не иметь налета сентиментальности, но разве без нее возможна не только в литературе, но и в жизни несчастная любовь, вынужденная разлука с возлюбленным.
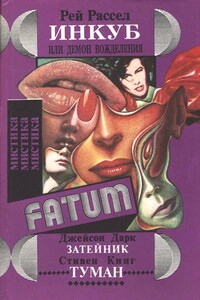
Человек-зверь, словно восставший из преисподней, сеет смерть в одном из бразильских городов. Колоссальные усилия, мужество и смекалку проявляют специалисты по нечистой силе международного класса из Скотланд-Ярда Джон Синклер и инспектор Сьюко, чтобы прекратить кровавые превращения Затейника.
