Доминик - [13]
Могу сказать, что семьи у меня не было, и лишь теперь, когда у меня есть дети, я узнал, как нежны и надежны узы, которых я был лишен в их возрасте. Мать моя едва смогла выкормить меня и умерла. Отец прожил еще несколько лет, но был настолько слаб здоровьем, что я перестал ощущать его присутствие задолго до того, как его потерял, и он умер для меня гораздо раньше, чем наступила действительная его кончина, так что в тот день, когда он угас и я остался один и в трауре, я не почувствовал никакой существенной перемены, которая отозвалась бы во мне болью. Смысл слова «сирота», которое все вокруг произносили таким тоном, как будто в нем было что-то роковое, представлялся мне весьма смутно, и только по слезам наших слуг я понимал, что меня надобно жалеть.
Я вырос среди этих добрых людей и под присмотром одной из сестер моего отца, госпожи де Сейсак; вначале она опекала меня издалека, но позже, когда попечения о моем имуществе и воспитании настоятельно потребовали ее присутствия, перебралась в Осиновую Рощу. Во мне она нашла юного дикаря, неотесанного и вполне невежественного; подчинить меня было легко, убедить труднее, я был бродяжкой в самом точном смысле слова, не ведал, что такое труд и правила поведения, и когда в первый раз услышал разговоры о занятиях и распределении времени, разинул рот от удивления, обнаружив, что жизнь отнюдь не сводится к блаженной беготне по полям. До той поры ничего другого я не делал. Последние мои воспоминания об отце были таковы: в редкие часы, когда болезнь, подтачивавшая его силы, давала ему небольшую передышку, он выходил из дому, брел к ограде парка и в солнечную послеполуденную пору прогуливался там, опираясь на толстую трость и ступая медленно-медленно, так что казался мне совсем стариком. Я тем временем носился по полям и ставил силки для птиц. Другого примера у меня не было, и я полагал, что мое времяпрепровождение – почти точный сколок с отцовского, с небольшою только разницей. Что же до товарищей моих игр, это были дети соседних крестьян, либо слишком ленивые, чтобы ходить в школу, либо слишком юные, чтобы работать в поле; и от них я выучился смотреть на будущее с величайшей беспечностью. С ними прошел я единственную школу, которая была мне по душе, единственный курс наук, который я принял без бунта, и, заметьте, единственный, которому суждено было принести лучшие и самые стойкие плоды. Исподволь и вперемешку в моей памяти копились всякие мелочи, составляющие премудрость и прелесть сельской жизни. У меня были все задатки для того, чтобы извлечь пользу из подобного учения: крепкое здоровье, зрение истого крестьянина, то есть безукоризненное; слух, сызмала привыкший схватывать малейший шорох; неутомимые ноги и при этом пристрастие к жизни на вольном воздухе, внимание ко всему, что можешь наблюдать сам, что можешь видеть либо слышать, мало склонности к чтению печатных историй, величайший интерес к изустным; чудеса из книг занимали меня меньше, чем чудеса из легенд, и местные поверья я ставил куда выше волшебных сказок.
В десять лет я был такой же, как все дети в Вильнёве: я знал столько, сколько они, немногим меньше, чем их родители; но было между ними и мною одно различие, сначала неприметное, но которое потом вдруг стало явным: дело в том, что уже тогда окружающий мир, его явления, одни и те же что для меня, что для них, у меня вызывали ощущения, которые им, по-видимому, были совершенно чужды. Так, например, когда я начинаю припоминать, я убеждаюсь, что в ловле птиц меня больше всего привлекало совсем не удовольствие делать силки, ставить их под кустами и подстерегать добычу, а что-то другое, и вот доказательство: если в памяти моей и остался сколько-нибудь живой след от долгих часов, которые провел я, лежа в засаде, то это – четкое зрительное воспоминание о том или ином месте, точное представление о времени года и времени суток, даже эхо каких-то звуков, все еще мне слышных. Может статься, вам это покажется ребячеством, но я до сих пор помню, что тридцать пять лет тому назад, когда я вечером осматривал ловушки, расставленные на свежевспаханном поле, стояла такая-то погода, ветер дул оттуда-то, или что было тихо, небо было серое, сентябрьские горлицы летели над полями, рассекая воздух с резким свистом, а на окрестных холмах стояли ветряные мельницы, с крыльев которых сняли парусину, и ждали ветра, а ветра не было. Сам не знаю, как могла моя память удержать столь незначительные подробности, точно отметив не только год, но даже, может быть, день, и удержать их настолько прочно, что им нашлось место в рассказе человека, более чем немолодого; но если я остановился на этом воспоминании, одном из тысячи прочих, то лишь затем, чтоб показать вам, что мое физическое бытие уже оставляло след в моем сознании и во мне развивалась какая-то особая память, весьма мало чувствительная к фактам, но обладавшая своеобразной способностью вбирать впечатления.
Не было сомнений – особенно для тех, кто озаботился бы моим будущим, – что такого рода воспитание, здоровое, как принято считать, никуда не годилось. Как беззаботно мне ни жилось, сколько ни было у меня друзей из числа деревенских мальчишек, с которыми я был на ты и на равных, в сущности я был одинок, одинок из-за своего происхождения, одинок из-за своего положения, и мое настоящее было в бесчисленных противоречиях с моим будущим. Я сердечно привязывался к людям, которые годились мне в слуги, не в друзья; сам того не замечая, бог весть как, но прочно прирастал я к местам, которые мне следовало покинуть, и покинуть как можно скорее; наконец, я приобретал привычки, способствовавшие лишь тому, чтобы из меня получился тот неопределенный персонаж, с которым вы позже познакомитесь, полукрестьянин, полудилетант; я мог быть то одним из них, то другим, то обоими вместе, но ни одному из них никогда не удавалось полностью вытеснить другого.
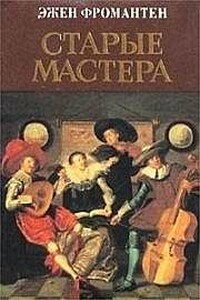
Книга написана французским художником и писателем Эженом Фромантеном (1820–1876) на основе впечатлений от посещения художественных собраний Бельгии и Голландии. В книге, ставшей блестящим образцом искусствоведческой прозы XIX века, тонко и многосторонне анализируется творчество живописцев северной школы — Яна ван Эйка, Мемлинга, Рубенса, Рембрандта, «малых голландцев». В книге около 30 цветных иллюстраций.Для специалистов и любителей изобразительного искусства.

Книга представляет собой путевой дневник писателя, художника и искусствоведа Эжена Фромантена (1820–1876), адресованный другу. Автор описывает свое путешествие из Медеа в Лагуат. Для произведения характерно образное описание ландшафта, населенных пунктов и климатических условий Сахары.
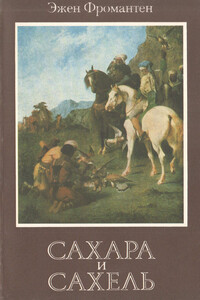
В однотомник путевых дневников известного французского писателя, художника и искусствоведа Эжена Фромантена (1820–1876) вошли две его книги — «Одно лето в Сахаре» и «Год в Сахеле». Основной материал для своих книг Фромантен собрал в 1852–1853 гг., когда ему удалось побывать в тех районах Алжира, которые до него не посещал ни один художник-европеец. Литературное мастерство Фромантена, получившее у него на родине высокую оценку таких авторитетов, как Теофиль Готье и Жорж Санд, в не меньшей степени, чем его искусство живописца-ориенталиста, продолжателя традиций великого Эжена Делакруа, обеспечило ему видное место в культуре Франции прошлого столетия. Книга иллюстрирована репродукциями с картин и рисунков Э. Фромантена.

Собрание сочинений австрийского писателя Стефана Цвейга (1881–1942) — самое полное из изданных на русском языке. Оно вместило в себя все, что было опубликовано в Собрании сочинений 30-х гг., и дополнено новыми переводами послевоенных немецких публикаций. В третий том вошли роман «Нетерпение сердца» и биографическая повесть «Три певца своей жизни: Казанова, Стендаль, Толстой».

«Заплесневелый хлеб» — третье крупное произведение Нино Палумбо. Кроме уже знакомого читателю «Налогового инспектора», «Заплесневелому хлебу» предшествовал интересный роман «Газета». Примыкая в своей проблематике и в методе изображения действительности к роману «Газета» и еще больше к «Налоговому инспектору», «Заплесневелый хлеб» в то же время продолжает и развивает лучшие стороны и тенденции того и другого романа. Он — новый шаг в творчестве Палумбо. Творческие искания этого писателя направлены на историческое осознание той действительности, которая его окружает.

Во 2 том собрания сочинений польской писательницы Элизы Ожешко вошли повести «Низины», «Дзюрдзи», «Хам».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
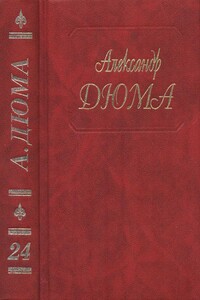
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
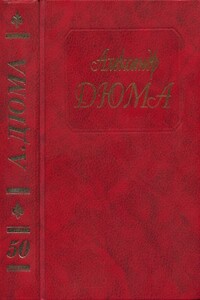
В этом томе предпринята попытка собрать почти все (насколько это оказалось возможным при сегодняшнем состоянии дюмаведения) художественные произведения малых жанров, написанные Дюма на протяжении его долгой творческой жизни.

Белая и Серая леди, дамы в красном и черном, призрачные лорды и епископы, короли и королевы — истории о привидениях знакомы нам по романам, леденящим душу фильмам ужасов, легендам и сказкам. Но однажды все эти сущности сходят с экранов и врываются в мир живых. Бесплотные тени, души умерших, незримые стражи и злые духи. Спасители и дорожные фантомы, призрачные воинства и духи старых кладбищ — кто они? И кем были когда-то?..
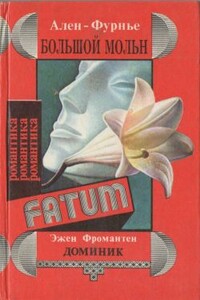
«Большой Мольн» (1913) — шедевр французской литературы. Верность себе, благородство помыслов и порывов юности, романтическое восприятие бытия были и останутся, без сомнения, спутниками расцветающей жизни. А без умения жертвовать собой во имя исповедуемых тобой идеалов невозможна и подлинная нежность — основа основ взаимоотношений между людьми. Такие принципы не могут не иметь налета сентиментальности, но разве без нее возможна не только в литературе, но и в жизни несчастная любовь, вынужденная разлука с возлюбленным.
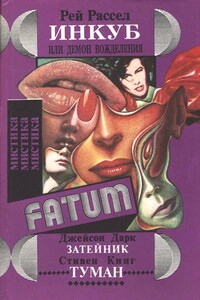
Человек-зверь, словно восставший из преисподней, сеет смерть в одном из бразильских городов. Колоссальные усилия, мужество и смекалку проявляют специалисты по нечистой силе международного класса из Скотланд-Ярда Джон Синклер и инспектор Сьюко, чтобы прекратить кровавые превращения Затейника.