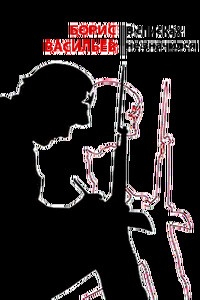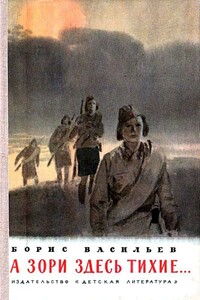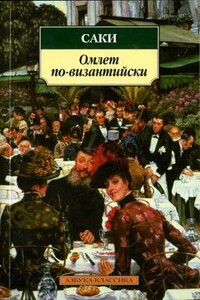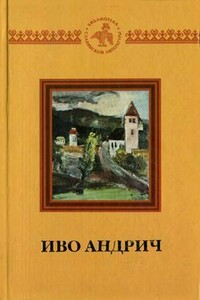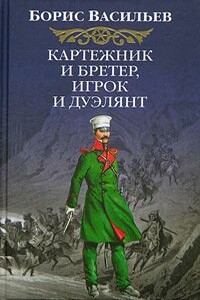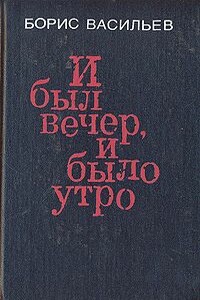— Таковы были цветочки. Он, что же, окончательно спился?
— Я давно не видел Ивана: мы крупно повздорили два года назад. Но если судить по этой телеграмме…
Вошла Фотишна. Даже она, фактическая домоправительница, испытывала необъяснимый страх в присутствии Варвары Ивановны Хомяковой.
— Чай подан.
— Сначала дела, — отрезала Варвара Ивановна. — Ступай. — Дождалась, когда Фотишна закроет дверь, пояснила: — Я еду к Мочульскому. Иван продал не только наше имение, он продал наши могилы. Два креста из белого мрамора. Ты помнишь мамины похороны?
— Я все помню, — сказал Николай Иванович. — Даже разговор на веранде. Иван тогда увел нас, младших, но я был старше этих младших.
— Старше тебя был Георгий, — тихо поправила Варвара Ивановна и перекрестилась.
— И тем не менее я помню, как ты ратовала за единство семьи.
Он сказал эти слова без всякой задней мысли: просто с горечью припомнив, что было время единения. Но Варвара Ивановна услышала в них упрек и не просто покраснела, а апоплексически налилась кровью.
— Благодари эту Елену, эту маркитантскую девку, которую твой братец приволок в наш дом: у него всегда была страстишка выискивать непременно что-то самое грязное. Она неплохо отблагодарила нас всех…
— Да при чем тут Лена…
— Непорядочные люди неспособны даже на благодарность, — отчеканила старшая сестра, вставая. — Я — к Мочульскому.
— Елена имела право влюбиться в кого угодно, — упрямо продолжал Николай Иванович. — В данном случае Ивану просто не повезло.
— Я ночую у тебя. — Варвара Ивановна привычно не слушала младших, когда не желала их слышать. — Распорядись доставить мой багаж и, будь любезен, повремени сегодня с обедом.
Она вышла столь стремительно, что генерал не успел встать, чтобы проводить ее. И остался сидеть, слушая, как за окнами зацокали копыта рысаков наемного экипажа. Ему стало грустно и горько, но не из-за свидания с сестрой и даже не из-за выходки спившегося с круга брата, а от воспоминаний. О детстве в этом старом городе, но в другом доме, проданном за долги, мимо которого он старался никогда не ходить, хотя новый дом оказался совсем рядом со старым. А старый продали тогда, когда Хомяков приехал с войны полным банкротом. Варвара, сыграв в Смоленске скромную свадьбу, укатила вместе с ним, и тетушке пришлось выкручиваться самой. А в доме за старшую оставалась привезенная с войны Леночка. Это для Варвары она выглядела маркитантской девкой, а для них — богоданной, живой, черноглазой сестричкой, в которую они все были влюблены — и он, и Георгий, и вернувшийся с боевыми наградами ее спаситель Иван. Только они влюблялись по-мальчишески, а Иван все делал очень серьезно. Он вообще был очень серьезным и основательным: закончил в университете, подождал, пока Леночка подрастет, и лишь тогда сделал официальное предложение. Она приняла его, и полгода они считались женихом и невестой, а потом Лена совершенно неожиданно и необъяснимо уехала из их дома, а Иван начал метаться по службам и пить, пить и метаться, пока из этих двух деяний не избрал одного. Оставил службу и осел в Высоком, а Лена так и затерялась в бесконечных провинциях гигантской империи. Генерал тяжело вздохнул, тяжело поднялся, тяжело захромал в привычный кабинет.
Он открыл дверь и замер: у его стола сидел высокий, худой и, что выглядело абсолютно несуразным, сутулый старик в старомодном поношенном костюме, с костлявой лошадиной физиономией и редкими желтовато-седыми волосами.
— Иван?
— Извини, брат, — потухшим голосом сказал Иван Иванович, который был всего-то на четыре года старше, а уже выглядел стариком. — Ждал, когда наша мегера уйдет. А сюда меня Фотишна провела. Мы не обнимемся?
— Я читал твою телеграмму, — сказал Николай Иванович, обходя стол с другой стороны.
— Понятно. А выпить нет ли? — Иван Иванович зябко передернул плечами, зябко потер руки. — Мне все равно, что дашь, все равно.
— Опять запьешь, Иван.
— Муторно, — тихо и покорно вздохнул брат. — Не на душе, нет. Жить муторно, Коля. Не хочется. Я, наверно, повешусь.
— Дурак, — по-генеральски пророкотал Николай Иванович, доставая бутылку и рюмки. — А ведь был Ваня. Надежда семьи.
— Водка? — Иван Иванович осклабился, обнажая редкие и совершенно уж лошадиные зубы. — Казенная? Хорошо русские генералы живут, хорошо. А я самогоночку пью, мне баба варит. Жалостливая, жалеет меня. — Задрожавшей рукой он схватил наполненную братом рюмку, торопливо выпил, давясь и всхлипывая. — Чудо! Чудо! Самогонка — дрянь, а я, знаешь, как пить приловчился? Я ведь, брат, химик, да, химик. И я самогонку с шампанским мешаю. Папочку с мамочкой, так сказать.
— Перестань ёрничать, Иван, — тихо сказал Николай Иванович.
— Перестал, перестал, — Иван Иванович поспешно покивал головой, сказал вдруг совсем иным, прежним, уж и им-то самим почти позабытым тоном: — Гавриила во сне видел, первый плод с древа нашего. Самый скороспелый и самый зрелый плод. Часто вспоминаешь его, Коля?
— Нет, — вздохнул генерал. И виновато добавил: — Я почти и не помню его.
— Я подразумевал не воспоминания, а думы. Он своим выстрелом думать нам завещал. Не только близким, а всем русским порядочным людям.