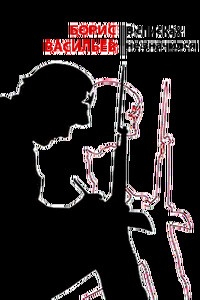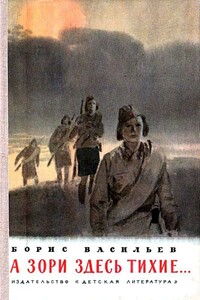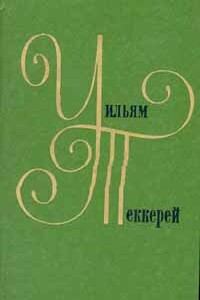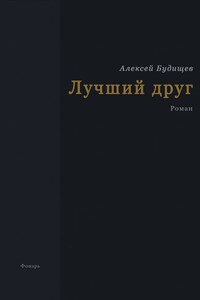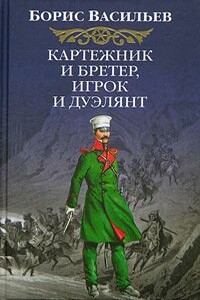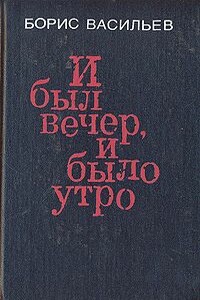Соколов замялся, взмок, окончательно утерял нить, и неизвестно, как выкарабкался бы на поверхность из тоста номер один, если бы не вошла коротко стриженная молодая женщина, похожая на румяного гимназиста.
— Моя супруга, — очень недовольно объявил капитан. — Полина Венедиктовна. Я, кажется, просил, дорогая, у нас встреча боевых друзей и…
— Не заикайтесь, — пренебрежительно сказала Полина. — Женщины бывают необходимы для утоления животной страсти или для метания бомб. Рада видеть вас, отважный мой спаситель, хотя должна откровенно признаться, что глубоко презираю себя за тот постыдный бабий вопль. Во мне воскричал инстинктивный ужас самки.
С этими словами она протянула руку Старшову, но не для поцелуя, а для братского рукопожатия. Что подпоручик и совершил, подивившись, как же это он умудрился не угадать в ней женщину.
— Налейте мне водки. — Полина села, закинула ногу на ногу и закурила; узкая юбка плотно обтянула бедро, и Леонид со стыдом обнаружил, что все время пялится на это бедро. — Ленивая женщина абсурдна, как непорочное зачатие, ленивый мужчина обыкновенен, как рыба: вы ретивы — для нас, учтивы — для нас, трудолюбивы — для нас, и даже ваша пресловутая храбрость — тоже для нас. Ну, а если все для нас, тогда почему же вы владеете нами, а не наоборот? Мы не претендуем на власть: в конце концов, любая жена — император, любая невеста — наследный принц и любая любовница — пиратский флаг, мы жаждем равноправия в любви. За равноправие и справедливость, господа мужчины!
— Эта мадам — щучка, — говорил Незваный, когда они возвращались. — Приехала глотать сонных рыбок вдали от шума городского. Между прочим, имеете шанс, Леонид.
— Я сонная рыба?
— Сонная рыба — ее супруг. По-моему, он импотент, и ей это надоело. Дерзайте, юноша.
— Я люблю, Викентий Ильич.
— На здоровье. Изменить женщине — значит изменить данному ей слову, а не врученному ей телу.
— Казуистика. Слово и дело должны быть неразделимы.
Они шутили с легкой душой, еще не ведая, сколь многозначительны их шутки. Но тогда они только подходили к порогу познания, время разбрасывать камни еще не наступило, зло было только снаружи, а внутри берегли добро, как тепло в стужу, не предполагая и в самом горячечном воображении, что скоро добро и зло сплетутся в единый клубок и остервенелое ослепление будет с легкостью приговаривать к расстрелу и за то и за другое, и вместе и порознь. И вообще человеческая жизнь станет дешевле патронов, и наиболее экономные предпочтут вешать, рубить или топить, и смерть многим и многим покажется прекраснее жизни, а главное, неизмеримо короче ее.
Поручик Незваный оставил подпоручику Старшову не только роту, но и собственного денщика Ивана Гущина. Это был молчаливый и очень старательный парень, но Леонид относился к нему настороженно, поскольку Викентий Ильич все же почему-то не взял его с собой.
— Социалисты его распропагандили, — пояснил Масягин. — И прежний ротный его благородие Викентий Ильич приказал ему про это молчать.
— Что за чушь, унтер!
— Вы прежний приказ ему отмените.
Леонид ничего отменять не стал, но вечером спросил Гущина. Денщик помялся, но честно сказал, что перед войной год жил у дядьки, рабочего металлического завода, на котором и сам работал грузчиком. А потом дядьку арестовали, а его отправили на передовую…
— В чем же тебя обвиняли?
— Не могу знать, ваше благородие.
— А дядьку в чем обвиняли?
— Тоже не могу знать!
— Значит, провокатора мне подсунули? — спросил Леонид у Незваного вскоре после этого разговора.
— Мелковат Гущин для провокатора, — лениво пояснил батальонный. — Он типичный, понимаете? А типичные начальству врать не решаются, вот он всю правду про родного дядю и выложил. Дядю — на каторгу, а его — к нам.
— Завтра же пойдет в строй!
— Другого пришлют. Этот честен и глуп, а может объявиться подлый и умный и продаст вас, Старшов, как Иуда, с братским поцелуем.
— Что же вы мне ни слова об этом Гущине?
— Такие явления познают личным опытом, — назидательно сказал Незваный.
И тихий, старательный доносчик Иван Гущин остался денщиком командира роты. Война шла своим чередом: кто-то убывал, кто-то прибывал, состав роты менялся, у подпоручика Старшова появились два новых помощника — прапорщик Масягин, произведенный из унтеров за усердие, и прапорщик Дольский, в недавнем эсер и народный учитель. Рота меняла свою физиономию, возраст и настроение; меняла личный состав и позиции, меняла дожди на снег и солнце на мороз; и лишь одно в ней оставалось неизменным: вера в своего командира. Он, естественно, по-прежнему оставался для солдат «их благородием», офицером и золотопогонником, но живая история роты встречала каждого новенького красочным рассказом о рассветной газовой атаке. А поскольку везучий Прохор Антипов никуда из роты не девался, то посвящение в ротный эпос всегда заканчивалось одинаково:
— Слышишь, ротный кашляет? Это он за меня кашляет, ясно тебе? И кто об этом позабудет, тот со мной повстречается.
Он произносил «кашляет» с ударением на втором слоге, на «я», что звучало особенно взвешенно. И вдобавок красноречиво клал на острое колено весомый жилистый кулак.