Дом, из рассвета сотворенный - [45]
Как-то завернул я на грузовике домой и прокатил его в Уэствуд. Иной раз, когда на конвейере посвободней, Даниэлс отпускает меня на доставку заказов. Размяться, проехаться за рулем приятно — поглядеть на белый свет можно, воздухом подышать. Когда особой спешки нет и ехать надо куда-нибудь вроде Уэствуда, я и его беру с собой, бывало. Так, чтоб Даниэлс не знал, а то уволил бы, пожалуй. Ну, заехал я, денек погожий, а он сидит, не знает, видно, куда себя девать, — и рад, конечно, прокатиться. Выехали на Уилширский проспект, светло, погоже, двенадцатый час дня. Вернуться мне надо к часу, а разгружусь за несколько минут. И будет у нас еще время взять по булке с котлетой и проехаться взморьем. Я Уэствуд давно люблю, и день хороший, народ на улицах. Подъехали, подал я машину кузовом в подворотню, на разгрузку. А кабина торчит на улицу, на тротуар, так что людям приходится обходить. Я разгружаюсь, он в кабине ждет. Дел немного, кончил тут же. Сел за руль, хочу трогать, а он просит подождать. «Ехать надо», — говорю. Времени у нас как раз, чтобы успеть до обеденных заторов проехать Уилширским и свернуть на взморье. Но он говорит: «Подожди», — и мы сидим в кабине, ждем, а зачем, не знаю, и начинаю сердиться. И тут выходит из магазина женщина, и он мне на нее кивает. Она одета нарядно, идет не спеша так, смотрит в витрины. Прошла перед кабиной нашей, и он отклонился назад — не хочет вроде, чтоб заметила. А почему и зачем все — не знаю. Она красивая, не спорю, но уже не молодая и телом не так чтобы, и особо пялиться не на что. Но виду из богатых, худощавая; на пляжах видно что бывает — кожа от загара золотистая, и белое гладкое платье на ней, белью туфельки, перчатки. Красивая, это верно. На глазах очки от солнца, рот небольшой, губы красиво смазаны чем-то светлым, а волосы не длинные, но уложенные, чистые, блестят, и в них широкая серебряная прядь, а сам волос темный и на солнце отливает почти медным отливом. Мы смотрели, покуда с глаз не скрылась.
Он сказал, что знает ее. Работу ей по дому делал когда-то и приглянулся. Он сказал, она хотела ему помочь в жизни. Он ей крепко нравился, у него с ней было все такое, и она бы помогла ему найти работу и уехать из резервации, если б он не угодил тогда в беду. Он несколько раз это повторил — что нравился ей крепко и она бы помогла ему, если б не та беда. Сперва я ему не поверил и рассердился, что он пыль в глаза пускает, бахвалится белой богачкой. Но оказалось, он правду говорил. После, в больнице, он вспомнил о ней, сказал мне, как ее зовут, а он же покалеченный лежал, мучился, ему не до выдумок было. Но даже и сперва, когда я думал, он сочиняет, мне чудно было, что он вроде все о ней знает — и какая она особенная и хорошая, и любила его как. Я ее опять увидел там, в больнице. Красивая она, это верно, как на журнальных картинках.
Работу он больше не искал уже.
Жаль, что мы окно закрыть забыли. Дождь. Хоть бы перестал. В дождь у нас всегда зябко и вроде голо. Мы хотели обклеить стены картинками лошадей, машин, лодок. Милли как-то занавески принесла, но мы так и не повесили. Завтра, может, навешу. Ей приятно будет. Мы, бывало, перешучиваемся с ней насчет его жестяного чемоданчика. Он лежал в углу, и паучок один все паутину там свою ткал. Милли придет, сметет ее, а паучок опять за дело и заткет на том же месте. Не сдавался ни в какую, и кончилось тем, что мы за него вступились. Паук, сказали ей, тоже жилец, как и мы, и по какому она праву тревожит его без конца, выселяет. Тогда она стала шутить, что чемодан даже и пауку не годится под жилье, а вот она принесет ножницы для жести и вырежет ему кукольный домик; и креслице-качалку надо сделать пауку. А здесь холодом веет в дождь. Комната хорошая, можно бы ее убрать нарядно. Тут в городе много хорошего жилья. Если бы я хотел, легко бы найти можно с отдельной ванной. Когда имеешь хорошую работу, то можно почти все, что хочешь.
Скоро уже, верно, домой придет старуха Карлозини. Ей бы дома сидеть в такой дождь. Того и гляди упадет и умрет прямо на улице, или же найдут ее окоченелую в постели. У нее хламье кой-какое, ложки-тарелки, и по утрам в половине шестого слышно, как она у себя начинает возиться. А на улицу она всегда надевает эту старую черную шляпу. Смотреть чудно — шляпа большая, поля опустились кругом, и обмызганный старый цветок свисает на один глаз и на ходу мотается. И никогда она не поздоровается, и глядит так подозрительно — как бы ты не изловчился, не украл у ней чего-нибудь. Идешь по лестнице — она слышит и всегда приотворяет дверь, следит за тобой в щелку. Но, может, больше ей и заняться нечем.
Как-то спускаемся мы с ним на улицу, а старуха Карлозини сидит внизу на лестнице, сгорбилась, не шевелится, будто дремлет. Дверь в ее комнату раскрыта, а сама сидит на лестнице — и мы в первый раз тогда увидели ее жилье. Темно там и грязно, и даже на лестнице запах слыхать. Она в первый раз тогда дверь свою растворила. В ванне она не моется, а знаете, как от стариков пахнет и как они запираются от света и воздуха. Худой шел оттуда дух. Спускаемся мимо нее и слышим — сказала что-то. Обернулись, она смотрит на нас мокрыми глазами. «Захворал Винченцо, — говорит. — Так сильно еще он не хворал». В руках у нее картонная коробка, и она протягивает ее нам. О ком это она, мы не знаем, заглянули в коробку, а там зверек дохлый, черно-белой шерстки — морская свинка, должно быть. Свернулся калачиком, и грязная белая тряпочка подстелена. «Ох, совсем захворал», — говорит и головой качает. Что ей сказать, не знаем, а она плачет и смотрит на нас, точно стоит нам захотеть, и он оживет. Так сердечно смотрит, знаете, просяще. «Его зовут Винченцо, — говорит. — Он ведь очень умный, он умеет стоять пряменько, как люди, как вы, господа, — и передними лапками хлопать в ладоши». И глаза у нее заблестели при этих словах, и она даже улыбнулась. И говорит, говорит так, будто этот зверек еще живой и сейчас встанет на задние лапки и забьет в ладоши по-ребячьи. Глядеть на нее прямо сердце сжимается — старая такая, одинокая, и говорит так, просит будто, и господами нас на каждом слове называет. Что сказать, не знаем, — стоим с ним и смотрим в коробку. А потом он говорит: «По-моему, сдох зверек». Зря он это, я подумал, — нехорошо, жестоко как-то. Но ведь надо же и сказать ей было. Она, может, и сама знала, что он неживой, и просто ждала, чтоб ей так и сказали, потому что не в силах сама была себе это сказать. Выдернула у него из рук коробку, поглядела на него пристально и горько — будто он ни за что ни про что обидел ее. А потом покивала головой и сгорбилась сильнее. Молчит и не плачет уже — как бы устала слишком и силы кончились. Я сказал, что, если она хочет, мы унесем Винченцо, но она не ответила. Сидит на ступеньках, прижимает к себе мертвого зверька — маленькая, одинокая, а вечереет уже, и темно становится на лестнице. Чудно, знаете, — этот зверек был ей другом, наверно, жил при ней всегда, а мы про него и не знали. А после все стало по-прежнему. Больше она уже не заговаривала с нами.
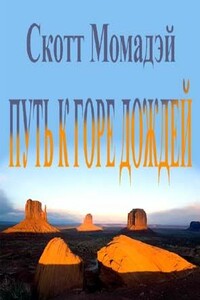
Феномену Н. Скотта Момадэя трудно подобрать аналог. Прежде всего, потому что у этой творческой личности множество ипостасей, каждая из которых подобна новому чуду, способному послужить темой самостоятельной беседы и анализа, ибо каждая связана с удивительными открытиями. Путь этого мастера богат откровениями, он полон новаторства во всех сферах творческой деятельности, где бы ни проявлялась щедрая натура этого человека.
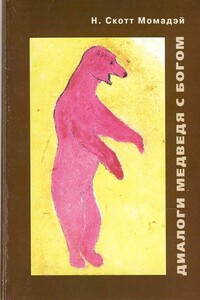
Есть народы, не согласные жить в мире без Медведя. Это люди, которые понимают, что без него нет девственого края. Медведь – хранитель и проявление дикости. По мере того, как она отступает – отступает и он. Когда плоть ее попирают и жгут, сокращается священная масса его сердца.

Джеймз Стивенз (1880–1950) – ирландский прозаик, поэт и радиоведущий Би-би-си, классик ирландской литературы ХХ века, знаток и популяризатор средневековой ирландской языковой традиции. Этот деятельный участник Ирландского возрождения подарил нам пять романов, три авторских сборника сказаний, россыпь малой прозы и невероятно разнообразной поэзии. Стивенз – яркая запоминающаяся звезда в созвездии ирландского модернизма и иронической традиции с сильным ирландским колоритом. В 2018 году в проекте «Скрытое золото ХХ века» вышел его сборник «Ирландские чудные сказания» (1920), он сразу полюбился читателям – и тем, кто хорошо ориентируется в ирландской литературной вселенной, и тем, кто благодаря этому сборнику только начал с ней знакомиться.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.