Долой оружие! - [55]
Он бросился ко мне.
Тут как раз пробили часы. Нам оставалось еще несколько свободных минут перед разлукой, но и те были отняты у нас: со мной опять сделался приступ невыносимых болей, так что вместо слов прощанья я могла только охать.
— Уходите, барон, — вмешался доктор. — Лучше скорее прервать тяжелую сцену. Всякое волнение опасно для больной.
Фридрих наскоро поцеловал меня и опрометью выбежал из спальни. Мои громкие стоны и последнее слово доктора: «опасно» напутствовали его.
Каково было ему выступать в поход! Что таил он на душе, в эти горькие минуты? А, между тем, на другой день в местной газете появилась такая заметка о выступлении драгун из Ольмюца:
«Вчера — ский драгунский полк, при громе музыки и с развернутыми знаменами, выступил из нашего города, чтобы завоевать себе свежие лавры в опоясанной морем братской стране. В рядах войска было заметно радостное воодушевление; лица военных пылали отвагой, глаза блестели нетерпением скорее отличиться, потешить молодецкую удаль и т. п…»
VI
Перед своим отъездом мой муж успел еще телеграфировать тетке о том, что я нуждаюсь в ее уходе, и, несколько часов спустя, она приехала к нам. Добрая старушка нашла меня без сознания и в большой опасности. Много недель провела я между жизнью и смертью.
Ребенок мой умер в тот же день, как родился. Душевное потрясение не прошло мне даром. Мой организм ослабел как раз в такое время, когда ему было нужно собрать все силы для того, чтобы преодолеть жестокие физические страдания и вынести страшное напряжение. Одним словом, еще немного — и меня бы не стало.
Доктор, согласно данному им клятвенному обещанию, был принужден сообщить моему несчастному мужу о смерти новорожденного и крайне опасном состоянии родильницы. Что же касается известий, получаемых от него с дороги, то мне их не передавали; я никого не узнавала и бредила день и ночь. Странный был это бред. У меня сохранилось о нем слабое воспоминание, но передать его словами невозможно. В ненормальном хаосе мыслей, осаждающих воспаленный мозг, создаются такие понятия и представления, которым нет имени на языке, приспособленном к правильному мышлению. Мне помнится только одно: что свои болезненные фантазии я пыталась занести в красные тетрадки, что оба роковых события — войну и свои роды — я перепутывала между собою. Мне мерещилось, будто бы пушки и холодное оружие — я особенно ясно чувствовала удары штыков — служили орудием моего разрешения, а я сама лежала на земле и меня старались отбить одна у другой две враждующие армии… Что мой муж отправился в поход, это я отлично помнила, но он представлялся мне в виде мертвого Арно, тогда как Фридрих стоял у моей постели, переодетый сиделкой, и гладил рукою серебряного аиста. Каждую минуту я ожидала, что вот-вот к нам прилетит граната, лопнет и разорвет нас всех в куски: меня, Арно и Фридриха, чтобы ребенок мой мог родиться на свет и царствовать над «Данцигом», «Шлезштейном» и «Гольмарком»… И это причиняло мне нестерпимую боль, и, главное, было совершенно не нужно… Между тем, где-нибудь да находился же такой человек, который мог все это переделать и прекратить. Невыносимая тяжесть, давившая мне грудь и угнетавшая все человечество, должна была скатиться прочь по одному его слову. И я изнывала от желания броситься к ногам этого неизвестного и молить его: «Помоги нам, сжалься, помоги ради справедливости! Долой оружие, долой!»
С этим возгласом я вернулась в одно утро к сознанию. Отец и тетка стояли в ногах моей кровати, и первый поспешил сказать успокоительным тоном:
— Да, да, дитя мое, успокойся, — оружие положено…
Возвращение к самочувствию после долгого беспамятства — удивительная вещь сама по себе. Прежде всего испытываешь радостное изумление, сознавая себя живым, а вслед затем является тревожный вопрос самому себе: «кто же я такой?…»
Память тотчас подсказала мне ответ, и в ту же минуту радость бытия сменилась для меня душевной мукой. Я была больная Марта Тиллинг, мой новорожденный умер, а мужа услали на войну… Но давно ли это произошло?… Тут я стала в тупик.
— Жив ли он? Есть ли письма, депеши? — были мои первые слова.
За время моей болезни накопилась целая пачка писем и телеграмм, полученных от Фридриха. Большею частью они были наполнены вопросами о моем положении и просьбами посылать ему известия ежедневно, по возможности ежечасно. Это, конечно, было мыслимо только в тех случаях, когда мой муж со своим полком останавливался в местностях, имевших телеграфное сообщение.
Мне не позволили тотчас просмотреть его писем, опасаясь, чтобы это чтение не взволновало меня. Едва опомнившись от бреда, я прежде всего нуждалась в спокойствии. Одно только могли сообщить мне: Фридрих до сих пор оставался невредим. Он участвовал уже во многих удачных сражениях, и война должна была скоро кончиться; неприятель держался уже только на одном Альзене, а когда тот будет взят, наши войска вернутся домой, покрытые славой.
Так говорил отец, стараясь меня утешить. А тетя Мари передавала мне историю моей болезни. Целые недели прошли с того дня, когда она приехала в Ольмюц; в тот же день Фридрих выступил в поход, а мой ребенок родился и умер… Это я еще немного помнила, но что было после: приезд отца, известия от Фридриха и самый ход моей болезни… тут уже память отказывалась мне служить. Только теперь я узнала, что едва не умерла. Врачи уже отказались от меня, и папа был вызван проститься со мною перед смертью. Фридриху добросовестно сообщали все эти дурные вести обо мне, но также и хорошие. Вот уже несколько дней, как врачи подают надежду, и, вероятно, телеграммы о том находятся в настоящее время в руках Тиллинга.

Книга «Поизмятая роза, или Забавное похождение прекрасной Ангелики с двумя удальцами», вышедшая в свет в 1790 г., уже в XIX в. стала библиографической редкостью. В этом фривольном сочинении, переиздающемся впервые, описания фантастических подвигов рыцарей в землях Востока и Европы сочетаются с амурными приключениями героинь во главе с прелестной Ангеликой.

антологияПовести и рассказы о событиях революции и гражданской войны.Иллюстрация на обложке и внутренние иллюстрации С. Соколова.Содержание:Алексей ТолстойАлексей Толстой. Голубые города (рассказ, иллюстрации С.А. Соколова), стр. 4-45Алексей Толстой. Гадюка (рассказ), стр. 46-83Алексей Толстой. Похождения Невзорова, или Ибикус (роман), стр. 84-212Артём ВесёлыйАртём Весёлый. Реки огненные (повесть, иллюстрации С.А. Соколова), стр. 214-253Артём Весёлый. Седая песня (рассказ), стр. 254-272Виктор КинВиктор Кин. По ту сторону (роман, иллюстрации С.А.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
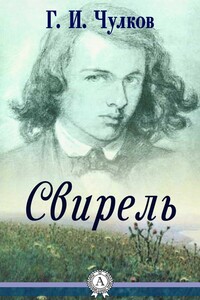
«Свирель» — лирический рассказ Георгия Ивановича Чулкова (1879–1939), поэта, прозаика, публициста эпохи Серебряного века русской литературы. Его активная деятельность пришлась на годы расцвета символизма — поэтического направления, построенного на иносказаниях. Чулков был известной персоной в кругах символистов, имел близкое знакомство с А.С.Блоком. Плод его философской мысли — теория «мистического анархизма» о внутренней свободе личности от любых форм контроля. Гимназисту Косте уже тринадцать. Он оказывается на раздорожье между детством и юностью, но главное — ощущает в себе непреодолимые мужские чувства.

Франсиско Эррера Веладо рассказывает о Сальвадоре 20-х годов, о тех днях, когда в стране еще не наступило «черное тридцатилетие» военно-фашистских диктатур. Рассказы старого поэта и прозаика подкупают пронизывающей их любовью к простому человеку, удивительно тонким юмором, непринужденностью изложения. В жанровых картинках, написанных явно с натуры и насыщенных подлинной народностью, видный сальвадорский писатель сумел красочно передать своеобразие жизни и быта своих соотечественников. Ю. Дашкевич.
