Долли - [42]
— А Пушкин-то сердился на меня за статью мою о его «Цыганах» и эпиграмму написал: «Прозаик и поэт».
— Знаю, — говорит Долли. — Но знаю и то, что Пушкин высоко ценит вас — как критика, как полемиста, как поэта и, наконец, как человека.
Гости расходятся к вечеру. Долли, Елизавета Михайловна, Фикельмон до кареты провожают Козлова. Теплые пожелания, рукопожатия, ласковые слова увозит с собой слепой, безногий поэт в свое трудное завтра.
А Вяземский, улыбаясь, говорит друзьям, что Елизавете Михайловне можно простить ее проказы уже только потому, что она сумела воспитать дочерей любящих и уважающих ее. А семью сумела создать на редкость дружной. И он цитирует стихи Владимира Соллогуба, посвященные Елизавете Михайловне:
От себя добавляет:
— Дружба в ней возвышается до степени доблести.
Влюбленная дружба
Назавтра, после приема у Хитрово, Долли с утра маялась головной болью. Ее единственным визитером в этот день был Вяземский. А в его обществе она обычно забывала все болезни.
Вяземский любит говорить о себе. Но говорит всегда интересно и к месту. Долли убеждена, что половина того, что он говорит, уже давно продумана, а может быть, и записана им. Долли с удовольствием его слушает.
В этот день Вяземский в ударе, и Долли не перебивает его горячую речь.
— С тех пор, что помню себя, во мне появлялись и копошились какие-то неосознанные зародыши, литературные и авторские. Например, во время оно «Московские ведомости» выходили два раза в неделю, по средам и субботам. Я всегда караулил их появление в доме нашем и с жадностью кидался на них. Но искал я не политических известий, а стихотворений, которые изредка печатались. Более всего привлекали меня объявления книгопродавцов о выходящих книгах... В детстве я учился лениво и рассеянно. Рано начал писать стихи. Первоначально они были французские...
— Насколько я помню, вы учились в двух учебных заведениях? — перебила Долли.
— Да, первоначально отдали меня в Иезуитский пансион, а затем в пансион при Педагогическом институте.
— А возвратившись, уже юношей, вы застали завсегдатаями вашего дома Карамзина, Василия Львовича Пушкина, юношу Жуковского, Дмитриева, — говорит Долли. — Видите, как я изучила вашу биографию! А еще я знаю, как император Николай I сказал по поводу вашего неучастия в декабрьском восстании: «Отсутствие имени его в этом деле доказывает только, что он был умнее и осторожнее других».
— Благодарю, дорогой друг, — улыбается Вяземский, — но все же мне сегодня хочется еще кое-что добавить. Я был между двух огней: отец хотел видеть во мне математика; Карамзин боялся увидеть во мне плохого стихотворца... «Берегись, — говаривал он, — нет никого жалче и смешнее худого писачки и рифмоплета».
— И как вы все же сделались поэтом?
— Помню, в 1816 году Александр Тургенев давал вечер в честь Карамзина. Все арзамасцы были налицо. Хозяин вызвал меня прочесть кое-что из моих стихотворений. Выслушав их, Карамзин сказал мне: «Теперь уже не буду отклонять вас от стихотворства. Пишите с богом». И Крылов, который был здесь, порадовал меня хорошим отзывом. Жребий брошен. С тех пор я признал себя сочинителем. А Пушкин встретил меня неласково. Вот как он обо мне писал: «Читал сегодня послание князя Вяземского (видно, он сердит, что величает меня княжеством!) к Жуковскому, напечатанное в «Сыне отечества» в тысяча восемьсот двадцать первом году. Смелость, сила, ум и резкость, но что за звуки! Кому был феб из русских ласко в... Неожиданная рифма Херасков не примиряет меня с такой какофонией». А Пушкин, оказывается, просто рассердился на меня за то, что я сказал, что язык наш рифмами беден. «Как хватило в тебе духа, — сказал он мне, — сделать такое признание?» Оскорбление русскому языку он принимал за оскорбление личное. Между тем если Карамзин и Пушкин бывали ко мне строги, то порою бывали и милостивы. Они нередко сочувствовали плодам пера моего. Драли меня за уши, но гладили и по головке.
Долли смеется.
— Но Карамзин прежде всего историк. Я к его стихам совершенно равнодушна.
— Вот тут уж, позвольте, милая Долли, не согласиться с вами, — возразил Вяземский. — До Карамзина стих был напряженный, надутый. Поэзия наша, за исключением Державина, была отвлеченной, равнодушной. С Карамзиным родилась поэзия чувства, любви к природе, нежных оттенков мыслей и впечатлений — словом, родилась поэзия внутренняя, задушевная. В ней впервые отразилась не одна внешняя обстановка, но в сердечной исповеди сказалось, что сердце чувствует, любит, таит и питает в себе. Из этого, пока еще согласен я, довольно скромного родника пролились и прозвучали позднее обильные потоки поэзии Жуковского, Батюшкова, Пушкина, оплодотворившей нашу поэтическую почву. Разве можно, например, не полюбоваться красотой такого живописного стиха:
Долли пожала плечами и усмехнулась.
А Вяземский, заметив это, нравоучительно сказал:
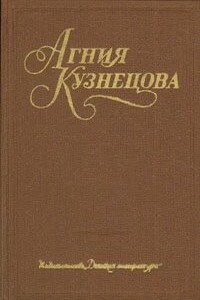
«… Дверь открылась без предупреждения, и возникший в ее проеме Константин Карлович Данзас в расстегнутой верхней одежде, взволнованно проговорил прерывающимся голосом:– Наталья Николаевна! Не волнуйтесь. Все будет хорошо. Александр Сергеевич легко ранен…Она бросается в прихожую, ноги ее не держат. Прислоняется к стене и сквозь пелену уходящего сознания видит, как камердинер Никита несет Пушкина в кабинет, прижимая к себе, как ребенка. А распахнутая, сползающая шуба волочится по полу.– Будь спокойна. Ты ни в чем не виновна.
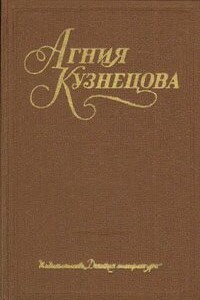
«… – Стой, ребята, стой! Межпланетный корабль! Упал на Косматом лугу. Слышали?.. Как землетрясение!Миша Домбаев, потный, с багровым от быстрого бега лицом и ошалевшими глазами, тяжело дыша, свалился на траву. Грязными руками он расстегивал на полинявшей рубахе разные по цвету и величине пуговицы и твердил, задыхаясь:– Еще неизвестно, с Марса или с Луны. На ядре череп и кости. Народищу уйма! И председатель и секретарь райкома…Ребята на поле побросали мешки и корзины и окружили товарища. Огурцы были забыты. Все смотрели на Мишу с любопытством и недоверием.
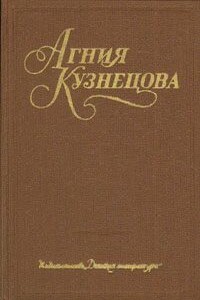
«Они ехали в метро, в троллейбусе, шли какими-то переулками. Она ничего не замечала, кроме Фридриха.– Ты представляешь, где мы? – с улыбкой наконец спросил он.– Нет. Я совершенно запуталась. И удивляюсь, как ты хорошо ориентируешься в Москве.– О! Я достаточно изучил этот путь.Они вошли в покосившиеся ворота. Облупившиеся стены старых домов окружали двор с четырех сторон.Фридрих пошел вперед. Соня едва поспевала за ним. Он остановился около двери, притронулся к ней рукой, не позвонил, не постучал, а просто притронулся, и она открылась.В дверях стоял Людвиг.Потом Соня смутно припоминала, что случилось.Ее сразу же охватил панический страх, сразу же, как только она увидела холодные глаза Людвига.
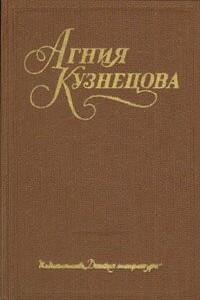
«… Степан Петрович не спеша выбил трубку о сапог, достал кисет и набил ее табаком.– Вот возьми, к примеру, растения, – начал Степан Петрович, срывая под деревом ландыш. – Росли они и двести и пятьсот лет назад. Не вмешайся человек, так и росли бы без пользы. А теперь ими человек лечится.– Вот этим? – спросил Федя, указывая на ландыш.– Этим самым. А спорынья, черника, богородская трава, ромашка! Да всех не перечтешь. А сколько есть еще не открытых лечебных трав!Степан Петрович повернулся к Федору, снял шляпу и, вытирая рукавом свитера лысину, сказал, понизив голос:– Вот, к примеру, свет-трава!..Тогда и услышал Федя впервые о свет-траве.
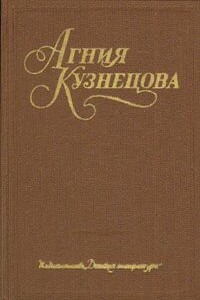
«… В комнате были двое: немецкий офицер с крупным безвольным лицом и другой, на которого, не отрываясь, смотрела Дина с порога комнаты…Этот другой, высокий, с сутулыми плечами и седой головой, стоял у окна, заложив руки в карманы. Его холеное лицо с выдающимся вперед подбородком было бесстрастно.Он глубоко задумался и смотрел в окно, но обернулся на быстрые шаги Дины.– Динушка! – воскликнул он, шагнув ей навстречу. И в этом восклицании был испуг, удивление и радость. – Я беру ее на поруки, господин Вайтман, – с живостью сказал он офицеру. – Динушка, не бойся, родная…Он говорил что-то еще, но Дина не слышала.
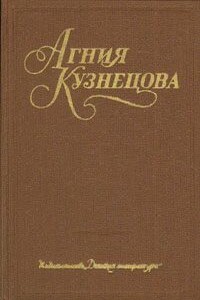
«… В первый момент Вера хотела спросить старуху, почему Елена не ходит в школу, но промолчала – старуха показалась ей немой. Переглянувшись с Федей, Вера нерешительно постучала в комнату.– Войдите, – послышался голос Елены.Вера переступила порог комнаты и снова почувствовала, как в ее душе против воли поднялось прежнее чувство неприязни к Елене. Федя вошел вслед за Верой. Он запнулся о порог и упал бы, если б не ухватился за спинку стула.Елена весело рассмеялась. Вера ждала, что она удивится и будет недовольна их появлением.

Его арестовали, судили и за участие в военной организации большевиков приговорили к восьми годам каторжных работ в Сибири. На юге России у него осталась любимая и любящая жена. В Нерчинске другая женщина заняла ее место… Рассказ впервые был опубликован в № 3 журнала «Сибирские огни» за 1922 г.

Маленький человечек Абрам Дроль продает мышеловки, яды для крыс и насекомых. И в жару и в холод он стоит возле перил каменной лестницы, по которой люди спешат по своим делам, и выкрикивает скрипучим, простуженным голосом одну и ту же фразу… Один из ранних рассказов Владимира Владко. Напечатан в газете "Харьковский пролетарий" в 1926 году.

Прозаика Вадима Чернова хорошо знают на Ставрополье, где вышло уже несколько его книг. В новый его сборник включены две повести, в которых автор правдиво рассказал о моряках-краболовах.
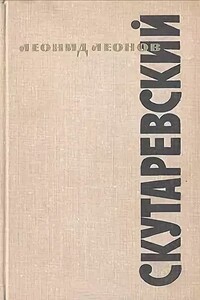
Известный роман выдающегося советского писателя Героя Социалистического Труда Леонида Максимовича Леонова «Скутаревский» проникнут драматизмом классовых столкновений, происходивших в нашей стране в конце 20-х — начале 30-х годов. Основа сюжета — идейное размежевание в среде старых ученых. Главный герой романа — профессор Скутаревский, энтузиаст науки, — ценой нелегких испытаний и личных потерь с честью выходит из сложного социально-психологического конфликта.
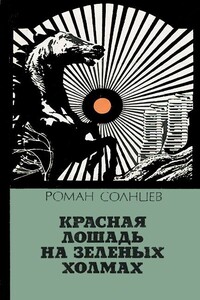
Герой повести Алмаз Шагидуллин приезжает из деревни на гигантскую стройку Каваз. О верности делу, которому отдают все силы Шагидуллин и его товарищи, о вхождении молодого человека в самостоятельную жизнь — вот о чем повествует в своем новом произведении красноярский поэт и прозаик Роман Солнцев.

Владимир Поляков — известный автор сатирических комедий, комедийных фильмов и пьес для театров, автор многих спектаклей Театра миниатюр под руководством Аркадия Райкина. Им написано множество юмористических и сатирических рассказов и фельетонов, вышедших в его книгах «День открытых сердец», «Я иду на свидание», «Семь этажей без лифта» и др. Для его рассказов характерно сочетание юмора, сатиры и лирики.Новая книга «Моя сто девяностая школа» не совсем обычна для Полякова: в ней лирико-юмористические рассказы переплетаются с воспоминаниями детства, героями рассказов являются его товарищи по школьной скамье, а местом действия — сто девяностая школа, ныне сорок седьмая школа Ленинграда.Книга изобилует веселыми ситуациями, достоверными приметами быстротекущего, изменчивого времени.