Докучаев - [2]
Как только увидали меня, зааплодировали, кто-то крикнул «ура». За ним все – и господа и народ кругом. Все «ура». Рев звериный! Да-с, такого успеха никогда я больше не имел.
– Как называлась эта пьеса? – спрашиваю.
– «Дон Педро, или Испанская инквизиция». Она самодельная. Мосолов ее из испанского романа переделал для своего театра и после спектакля сжег в камине.
– Я уж жалел, вот бы сборы делала, – перебил Григорий Иванович. – Лучше бы он пьесу мне прислал, а то десять возов рухляди: колесо и Перуна на отдельных дрогах везли.
– А сатану в кресле? – спрашиваю.
– Нет, сатана доморощенный, мы сами делали для «Казни безбожника».
– А Перун наш, – поторопился Казаков. – Потом Мосолов ставил «Крещение Руси, или Владимир Красное Солнышко». Декорации писать стали: Перуна сделали из огромнейшего осокоря, вырубленного в парке, да тут у барина с барыней вышла заворошка, она из ревности потребовала закрыть театр и распустить актеров.
Имущество все театральное свалили в сарай, труппу разогнали, кого на работы в дальние имения разослали, а я бежал…
Я слушал интереснейшие рассказы Казакова, а перед моими глазами еще стояла эта страшная бутафория с ее паутиной, контурами мохнатых серых ужасов: сатана, колесо, рухнувшая громада идола, потонувшая в пыли. Пахло мышами.
А Вася, когда мы уже принесли сундук, переодевались и мылись дома, заметил:
– Какой ужас! Вечером ни за что не пойду туда. Вельзевул этот, а над ним Перун, – так мне и кажется, что в окно кто-то лезет… лезет… Запри, кажется, меня на ночь туда – утром найдут бездыханным, как Хому Брута…
И сразу передо мною предстал гоголевский «Вий». Потом, когда уже я оставил Тамбов, у меня иногда по ночам галлюцинации обоняния бывали: пахнет мышами и тлением. Каждый раз передо мной вставал первый кусочек моей театральной юности: вспоминались мелочи первого сезона, как живые, вырастали товарищи актеры и первым делом Вася.
Вспоминался чай у Григорьева… и красноносый Казаков с его рассказами, и строгое лицо резонера В.Т. Островского. Помню до слова его спор за чаем с Казаковым, который восторгался Рыбаковым в роли Велизария.
– Нет, Милославский был лучше и величественнее. Ведь он был барон Фриденбург… и осанка…
– А как он тебя в «Велизарии» сконфузил? А? Ну-ка, расскажи молодому человеку.
– И горжусь этим…
Мы приготовились слушать, допив последний чай. В. Т. Островский поставил стакан на блюдечко, перевернул вверх дном и положил на дно кусочек сахара.
– Ну-с, это было еще перед волей, в Курске. Шел «Велизарий». Я играл Евтропия, да в монологе на первом слове и споткнулся. Молчу. Ни в зуб толкнуть. Пауза, неловкость. Суфлер растерялся. А Николай Карлович со своего трона ко мне, тем же своим тоном, будто продолжает свою роль: «Что же ты молчишь, Евтропий? Иль роли ты не знаешь? Спроси суфлера, он тебе подскажет. Сенат и публика уж ждут тебя давно».
Не успел Островский договорить последнюю фразу, как отворилась дверь, и высокий тенор наполнил всю комнату:
«Богам во славу, князю в честь!»
Против меня у распахнутой двери стоял стройный высокий богатырь в щегольской поддевке и длинных сапогах. Серые глаза весело смотрели. Обе руки размахнулись вместе с последней высокой нотой и остановились над его седеющей курчавой головой. В левой – огромная жестяная банка, перевязанная бечевкой, а в правой – большой рогожный кулек.
– Миша! – раздалось встречное приветствие.
– Гриша! Это икорка сальянская!..
Банку поставил к ногам хозяина, а кулек положил на пол у стула перед хозяйкой, приложившись к ее руке.
– Стерлядок вам, Анна Николаевна, саратовские, пылкого мороза.
Поцелуи, объятия.
В это время Вася шепчет мне:
– Этот вот тот самый – Докучаев. Помнишь, в «Свадьбе Кречинского» Расплюев жалуется: «После докучаевской трепки не жить».
Я так и обомлел. Пьеса эта прошла в сезон пять раз и была у меня на слуху.
– Могу я об этом его спросить, Вася?
– Не советую. В какой час попадешь!
– Михаил Павлович, позволите чайку, – спросила хозяйка.
– Гриша, чайку-то чайку, а что к чайку?
– А к чайку ромку. Еще осталось малость, никому не даю, на случай простуды берегу!
Докучаев как-то съежился, изменил лицо, задрожал, застучал зубами.
– Я ужасно простужен, – чуть не плачет.
– Сейчас вылечу, принесу, – наклонился к кульку и отступился. – Не поднимешь. Да ты пуд, что ли, привез?
– Да, около того, без малого с лишком… Извини, Гриша, уж сколько было.
Докучаев опрокинул бутылку в пустой чайный стакан, который оказался почти полным, затем поднял его и продекламировал:
И залпом выпил.
Несмотря на просьбы Григорьева погостить, Докучаев отказался:
– Меня телеграммой вызвал Лаухин. Я у него режиссером, для Орла еду труппу составлять.
На другой день перед отъездом Докучаев спустился вниз к В.Т. Островскому, который звал его «дорожку погладить» и приготовил угощение.
Большая низенькая комната, увешанная афишами и венками. Вдруг Докучаев замолчал, поднял голову, озираясь:
– Это та самая комната?
– Да, – подтвердил В.Т. Островский.
– Какие подлецы!.. А жаль Гришу… Совсем зря погиб… – И, задумавшись, молча выпил. – Еще!..
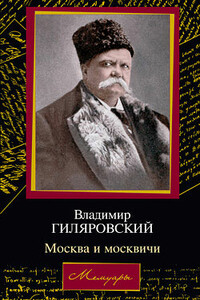
Мясные и рыбные лавки Охотного ряда, тайны Неглинки, притоны Хитровки, Колосовки и Грачевки с грязными дворами и промозглыми «фатерами», где жизнь на грош, а любовь за копейку…Автор, прозванный современниками «дядей Гиляем», известный журналист, в живой и занимательной форме рассказывает о быте и нравах старой Москвы, подкупая достоверностью и живостью портретов и описаний, ощущением сиюминутности происходящего и сохраняя в своих очерках неповторимый аромат той эпохи.

В начале 1870-х годов Владимир Гиляровский впервые приехал в Москву – и с тех пор мы все знаем его как знатока самых сокровенных тайн города. От Хитровки до Сухаревки, по подземным водам Неглинки мы отправимся за журналистом в увлекательное путешествие по самым мрачным местам Москвы… В этом сборнике вы найдете самые интересные очерки и репортажи «короля репортеров», в том числе и рассказы о знаменитом пожаре в Хамовниках, трагедии на Ходынском поле, Хитровом рынке и притонах Грачевки.

«В 1883 году И. И. Кланг начал издавать журнал „Москва“, имевший успех благодаря цветным иллюстрациям. Там дебютировал молодой художник В. А. Симов. С этого журнала началась наша дружба. В 1933 году В. А. Симов прислал мне свой рисунок, изображавший ночлежку Хитрова рынка. Рисунок точно повторял декорации МХАТ в пьесе Горького „На дне“…».
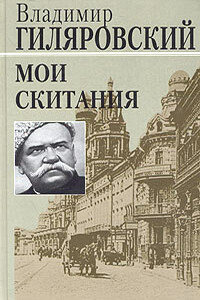
Владимир Алексеевич Гиляровский — явление в истории русской культуры уникальное. Его жизнь была так богата событиями и приключениями, а личность так привлекательна, что еще при жизни он стал фигурой легендарной. Один из самых знаменитых репортеров своего времени, талантливый беллетрист, поэт, он оставил и удивительные книги воспоминаний, давно ставшие классикой мемуарного жанра.В «Мои скитания» — а эту книгу Гиляровский называл «самой любимой», — с необыкновенной живостью и непосредственностью описаны молодые годы будущего писателя, успевшего побывать к тридцати годам и бурлаком, и крючником, и рабочим, и табунщиком, и актером, и солдатом, и репортером.

Владимир Гиляровский не писал толстых романов и повестей, но многие из его современников ушли из памяти людской, а он остался. Нельзя забыть его – талантливого в каждой своей строке журналиста и писателя, защитника угнетенных и обиженных.В сборник вошли рассказы и очерки о различных событиях, очевидцем которых был писатель, и людях, с которыми сводила его судьба. В этих коротких произведениях созданы яркие картины дореволюционного быта и нравов.

«В. Н. Андреев-Бурлак рассказал как-то в дружеской компании случай, произошедший с ним на нижегородской ярмарке.– Приезжаю я из Москвы с утренним поездом. Пью в буфете кофе. Садится рядом со мной толстяк с алмазным перстнем на указательном пальце. На жилете гремит брелоками золотая цепь…».
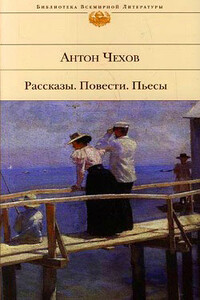
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
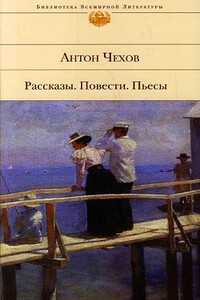
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
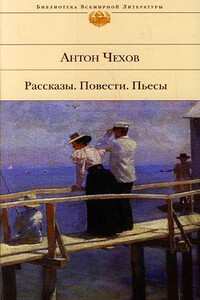
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1896, номер 136, 19 мая.В собрания сочинений не включалось.Печатается по тексту газеты «Нижегородский листок».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Каждый московский театр имел свою публику. Самая требовательная и строгая публика была в Малом театре. На первых представлениях всегда бывали одни и те же строгие, истинные любители искусства. Люди, повидавшие все лучшее за границей, они в состоянии были заплатить огромные деньги барышникам или при помощи связей и знакомств получить билеты из кассы…».

«Рассветало, когда мы с Андреевым-Бурлаком вышли от А. А. Бренко. Народу на улицах было много. Несли освященные куличи и пасхи. По Тверской шел народ из Кремля. Ни одного извозчика, ни одного экипажа: шли и по тротуарам и посреди улиц. Квартира Бурлака находилась при театре в нижнем этаже, вход в нее был со двора…».

«Из всех театральных знаменитостей моей юности дольше других оставалась в живых А. А. Бренко. На моих глазах полвека сверкала ее жизнь в непрерывной борьбе, без минуты покоя. Это был путь яркой кометы, то ослепительной в зените, то исчезавшей, то снова выплывавшей между облаками и снова сверкавшей в прорывах грозовых туч…».

«В Тамбов я попал из Воронежа с нашим цирком, ехавшим в Саратов. Цирк с лошадьми и возами обстановки грузился в товарный поезд, который должен был отойти в два часа ночи. Окончив погрузку часов около десяти вечера, я пошел в город поужинать и зашел в маленький ресторанчик Пустовалова в нижнем этаже большого кирпичного неоштукатуренного здания театра…».