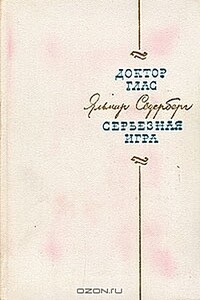Доктор Глас - [15]
Нет, не бывает, видно, такой красивой мечты, которая в конце концов не рассыпалась бы сама собою.
А еще я часто задаю себе вопрос: интересно, какой бы ландшафт я избрал, когда бы не прочитал в своей жизни ни одной книги и не видел ни одной картины. Очень может быть, что тогда мне и в голову не пришло бы выбирать, очень может быть, что я удовольствовался бы шхерами с их пригорками и бугорками. Все мои представления и мечты о природе основаны, надо думать, на впечатлениях, полученных от изящной словесности и изобразительного искусства. Это они научили меня тосковать по цветущим лугам старых флорентинцев, по мерному колыханию волн гомеровского моря, по коленопреклоненной молитве в бёклиновскои Священной роще[5].
Ах, что увидели бы мои собственные жалкие глаза в этом мире, предоставленные самим себе, без помощи сотен и тысяч наставников и друзей из тех, кто сочиняет, и мыслит, и видит за нас, простых смертных. Как часто думал я в юности: о, хоть бы приобщиться; суметь бы приобщиться. Суметь бы хоть однажды что-то дать, а не только все брать и брать. Так тоскливо влачить жизнь и одиночестве, с бесплодною душою; я, кажется, на все был бы способен, лишь бы почувствовать, что я кто-то, и что-то значу, и обрести уважение к самому себе. К счастью, большинство люден весьма непритязательны в этом смысле. Я же напротив, и я много от того перемучился, хотя самое страшное, по-моему, уже позади. Поэта из меня все равно бы не вышло. Мне никогда не удается увидеть ничего такого, что уже не было бы увидено и воспроизведено прежде меня. Я знаком кое с кем из поэтов и художников; странные, на мой взгляд, личности. Хотеть они ничего не хотят, а если когда и захотят, то поступают прямо наоборот. Они — только глаза, только уши, только руки. Но я им завидую. Не то чтобы я променял свою волю на их миражи, но как бы хорошо иметь и придачу такие глаза и такие уши. Иной раз, глядя на кого-нибудь из них, застывшего в неподвижности, отрешенного, уставившего взгляд в неведомое, я думаю про себя: кто знает, быть может, вот в эту самую минуту он видит то, чего никто до него не сумел увидеть, а вскоре увидят благодаря ему тысячи, и я в том числе. В творениях самых молодых из них я, правда, мало что смыслю — пока что! — но я знаю, я заранее предвижу, что стоит им в один прекрасный день стать признанными и знаменитыми, как и я их тотчас же пойму и стану ими восторгаться. Это все равно как с новой одеждой, мебелью, со всякой новинкой; разве только самые закоснелые и заплесневелые, самые безнадежные способны устоять. А сами творцы? Верно ли, что они законодатели своего времени? Бог его знает. Глядя на них, я, пожалуй бы, этого не сказал. Я склонен скорее думать, что они инструменты, на которых играет время, эоловы арфы, в которых поет ветер. А сам я что такое? И того меньше. У меня нет собственных глаз. Я даже на ту вон рюмку водки и редиску на столе не умею взглянуть своими собственными глазами, я гляжу на них глазами Стриндберга и вспоминаю, как он выпивал с друзьями в дни юности. А когда я провожал взглядом стремительно скользящих по каналу полосатых гребцов, во главе их словно бы пронеслась предо мною тень Мопассана.
А в эту вот самую минуту, когда я сижу возле раскрытого окна и пишу при мигающем свете свечи, ибо мне противно прикасаться к керосиновым лампам, а экономка моя так сладко спит после поминального кофепития, что мне жалко ее будить, — в эту самую минуту, когда пламя свечи колеблется на сквозняке и тень моя на зеленых обоях колеблется и вздрагивает вслед за пламенем и силится обрести плоть, — мне вспоминается в эту минуту Андерсен и его сказка про тень, и чудится мне, что я и есть та самая тень, что силилась стать человеком.
Я должен записать сон, который приснился мне нынче ночью.
Я стоял у постели пастора Грегориуса; он лежал больной. Верхняя половина его тела была обнажена, и я выслушивал его сердце. Кровать стояла в его рабочем кабинете; в углу стояла фисгармония, и кто-то играл на ней. То был не хорал, и вообще не какая-то определенная мелодия, а как бы обрывки фуги, восходящие и нисходящие пассажи. Дверь была открыта; это меня беспокоило, но я все никак не мог собраться закрыть ее.
— Что-нибудь серьезное? — спросил пастор.
— Нет, — ответил я, — серьезного ничего нет; но это опасно.
Я хотел этим сказать, что, мол, опасно для меня самого. И мне казалось во сне, что я выразился глубокомысленно и тонко.
— Но на всякий случай, — прибавил я, — можно ведь послать в аптеку за капсулами для причастия.
— Меня будут оперировать? — спросил пастор.
Я кивнул.
— Должно быть, придется. Ваше сердце никуда не годно, оно слишком старое. Придется его удалить. Операция, впрочем, пустяковая, достаточно обычного разрезального ножа. — Мне, как медику, это представлялось элементарным, и разрезальный нож как раз был под рукой. — Прикроем только лицо платочком.
Пастор громко стонал под носовым платком. Но вместо того чтобы оперировать его, я поспешно нажал на кнопку в стене.
Я убрал платок. Он был мертв. Я пощупал его руку; она была ледяная. Я посмотрел на свои часы.
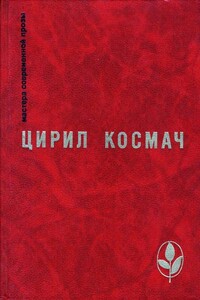
Цирил Космач (1910–1980) — один из выдающихся прозаиков современной Югославии. Творчество писателя связано с судьбой его родины, Словении.Новеллы Ц. Космача написаны то с горечью, то с юмором, но всегда с любовью и с верой в творческое начало народа — неиссякаемый источник добра и красоты.
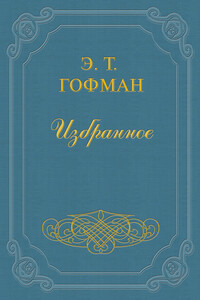
«В те времена, когда в приветливом и живописном городке Бамберге, по пословице, жилось припеваючи, то есть когда он управлялся архиепископским жезлом, стало быть, в конце XVIII столетия, проживал человек бюргерского звания, о котором можно сказать, что он был во всех отношениях редкий и превосходный человек.Его звали Иоганн Вахт, и был он плотник…».

Польская писательница. Дочь богатого помещика. Воспитывалась в Варшавском пансионе (1852–1857). Печаталась с 1866 г. Ранние романы и повести Ожешко («Пан Граба», 1869; «Марта», 1873, и др.) посвящены борьбе женщин за человеческое достоинство.В двухтомник вошли романы «Над Неманом», «Миер Эзофович» (первый том); повести «Ведьма», «Хам», «Bene nati», рассказы «В голодный год», «Четырнадцатая часть», «Дай цветочек!», «Эхо», «Прерванная идиллия» (второй том).

Книга представляет российскому читателю одного из крупнейших прозаиков современной Испании, писавшего на галисийском и испанском языках. В творчестве этого самобытного автора, предшественника «магического реализма», вымысел и фантазия, навеянные фольклором Галисии, сочетаются с интересом к современной действительности страны.Художник Е. Шешенин.

Автобиографический роман, который критики единодушно сравнивают с "Серебряным голубем" Андрея Белого. Роман-хроника? Роман-сказка? Роман — предвестие магического реализма? Все просто: растет мальчик, и вполне повседневные события жизни облекаются его богатым воображением в сказочную форму. Обычные истории становятся странными, детские приключения приобретают истинно легендарный размах — и вкус юмора снова и снова довлеет над сказочным антуражем увлекательного романа.
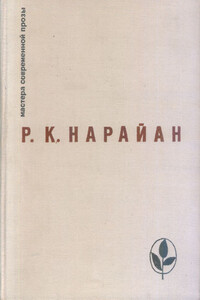
Рассказы Нарайана поражают широтой охвата, легкостью, с которой писатель переходит от одной интонации к другой. Самые различные чувства — смех и мягкая ирония, сдержанный гнев и грусть о незадавшихся судьбах своих героев — звучат в авторском голосе, придавая ему глубоко индивидуальный характер.