Добро в учении гр. Толстого и Ницше - [12]
Действительные противоречия в области нравственной жизни для Канта уже не существовали. Пред ним стояло неоконченное здание метафизики, и его задача состояла лишь в том, чтобы, не изменяя раз задуманного и наполовину выполненного плана, докончить начатое. И явились категорический императив, постулат свободы воли и т. д. Все эти столь роковые для нас вопросы имели для Канта лишь значение строительного материала. У него были незаделанные места в здании, и ему нужны были метафизические затычки: он не задумывался над тем, насколько то или иное решение близко к действительности, а смотрел лишь, в каком соответствии находится оно с критикой чистого разума – подтверждает ли оно ее или нарушает архитектоническую гармонию логического построения. И, конечно, своей цели он достиг. Логическое соответствие между частями здания ничего не оставляет желать: оно вполне кантовское. Но тем поразительнее отношение гр. Толстого к критике практического разума. Что общего между категорическим императивом или принципом возмездия, провозглашенным Кантом, и евангельским учением? Если немецкие профессора благоговеют пред нравственным учением Канта, если они восхищаются его «благородной защитой долга» – это понятно. Им больше всего нравится то обстоятельство, что у Канта этика по прочности и точности своих выводов приравнена к математике. Но гр. Толстой? Как мог он примириться с учением, где принципом наказания выставляется не милосердие, а справедливость («гордое слово справедливость», как выражался он еще в «Войне и Мире»), где говорится, что наказывать нужно не затем, чтобы оградить общество от опасности, и даже не затем, чтобы исправить преступника, а потому, что преступление совершено. Для Канта возможность подменить в данном случае слово «затем» словом «потому» было настоящей и очень важной победой: ad majoren gloriam критики чистого разума, интересы которой для ее автора, естественно, казались самыми высшими. Но гр. Толстой говорит, что критика чистого разума никуда не годится, что она «только потакает царствующему злу». Что же привлекло его к критике практического разума? Едва ли ему пришлось по сердцу учение Канта о сострадании. Как известно, Кант отвергал сострадание на том «основании», что оно только увеличивает количество страдания, прибавляя к горю страдающего еще горе сострадающего. Все эти практические выводы, которые так подходили Канту, так мало гармонируют с запросами гр. Толстого, по словам которого – «все благо людей только в отвержении от себя и служении другим!» Что же подвигло его, так скупо расточающего похвалы ученым – особенно знаменитым – возносить «критику практического разума»? Очевидно одно: категорический императив, обязанность служить добру, как добру, то самое, что когда-то Левин после мучительных сомнений отверг как антижизненный, ложный принцип. Теперь же для гр. Толстого этот принцип дороже всего. «Служить добру» – для него это не только бремя, а облегчение от бремени. И сверх того, это дает ему, помимо мнимых обязанностей, еще право требовать от других людей, чтобы они делали то, что он делает, чтобы они жили так, как он живет. Это дает ему счастливую возможность выступить с проповедью, открывает ему новые горизонты и перспективы, в которых он теперь более, чем когда бы то ни было, нуждается, после того как «Война и Мир» и «Анна Каренина» заключили собой иной период его существования, когда были другие горизонты и перспективы. И долг, чистый кантовский долг в той своей форме, которая не допускает никаких сомнений о том, что «можно» и чего «нельзя» делать, ложится в основание учения гр. Толстого, того самого гр. Толстого, который еще недавно так мало верил в разум и требовал от людей, чтобы они не меняли легкомысленно пути своих отцов и вверялись не соображениям ума, воображающего, что он может перекроить мир, а непосредственному инстинкту, дающему возможность «врезаться, как плуг в землю».
V
Быть может, читателю покажутся несправедливыми и ненужными сличения нового учения гр. Толстого с его прежним мировоззрением. Кто старое помянет – тому глаз вон. И затем, гр. Толстой так торжественно отрекся от своего прошлого, что укорять его в противоречии и непоследовательности уже совсем излишне. Он ведь сам признается, что был дурным. Чего же еще? Но прежде всего, я менее кого бы то ни было хочу укорять гр. Толстого. Он был, есть и навсегда останется «великим писателем земли русской». Если я заглядываю в его прошлое, то вовсе не затем, чтобы уличать его, а единственно с тем, чтобы лучше разъяснить себе смысл и значение его учения. И затем, меня не столько поражает разница между новым и прежним гр. Толстым, сколько единство и последовательность в развитии его философии. Правда, есть и существенные противоречия, и их забывать не следует. Гр. Толстой времени «Войны и Мира» и «Анны Карениной», во всяком случае, является для нас важным свидетелем, которого не только можно, но дóлжно, обязательно выслушать. В особенности ввиду того обстоятельства, что, как было показано выше, этот замечательный человек упорно и постоянно в течение всей своей жизни высказывал убеждение, что вне «добра» – нет спасения. Все изменения его философии никогда не выходили за пределы «жизни в добре»: перемены происходили только в представлении о том, в чем это добро и что нужно делать, чтобы иметь право считать его на своей стороне. Оттого-то в гр. Толстом всегда замечалась такая чисто сектантская нетерпимость в отношении к чужим мнениям и к отличному от его собственного образу жизни. Таково уже свойство добра. Кто не за него, тот против него. И всякий человек, признавший суверенность добра, принужден уже делить своих ближних на хороших и дурных, т. е. на друзей и врагов своих. Правда, гр. Толстой выражает постоянную готовность простить человека и перевести его из разряда дурных в разряд хороших, – но под непременным условием раскаяния. «Признайся, что ты был неправ, был дурным, живи по-моему, и тогда я назову тебя хорошим». Иного способа примирения нет. Более того – без этого условия объявляется вражда навеки. Вражда, конечно, не в обыкновенном смысле. Гр. Толстой не ударит, не подведет под несчастье своего противника. Наоборот даже, он подставит другую щеку, когда его ударят в одну, он примет и обиду, и горе, и тем больше будет доволен, чем больше нужно будет отдать. Одного только не отдаст – своего права на добро. При всяком посягательстве на это право гр. Толстой проявляет такую же жадность, какую проявляет у Шекспира Генрих V, когда дело идет о славе. Оба они – и гр. Толстой, и Генрих V – считают, что в данном случае жадность – не порок и не только не может быть поставлена в упрек, а прямо-таки должна быть вменена в достоинство человеку. С английского короля, конечно, спрашивать нечего, но когда гр. Толстой проявляет ту же готовность защищать свое благо, что и средневековый рыцарь, – это наводит уже на серьезные размышления. Та нравственность, то добро, которое, как мы всегда думали, стоит вне обычного соревнования эгоизма, оказывается вдруг таким же человеческим, неотчуждаемым благом, как и все другие чисто языческие блага, как слава, власть, богатство и т. д. Из-за добра тоже возможна неумолимая борьба – только при посредстве иного оружия. Вся жизнь гр. Толстого служит тому примером; вся проповедь его служит тому доказательством. В последнем своем произведении – «Что такое искусство», гр. Толстой, уже семидесятилетний старик, вступил в борьбу за свое право с целым поколением людей. И как эта борьба вдохновляет его! Книжка эта, вся задача которой сводится к тому, чтобы заявить людям: вы безнравственны, а я нравственен, т. е. высшее благо за мной, а не за вами – написана с мастерством, подобного которому вы не найдете в современной не только русской, но и европейской литературе. Несмотря на внешне спокойный, почти эпический тон, страстное возбуждение и негодование, направлявшие собой перо гр. Толстого, слишком чувствуются даже и теми, которые не очень интересуются источником творчества этого замечательного писателя. Бранных слов, в которых обыкновенно выражается человеческий гнев, там нет и в помине. Гр. Толстой избегает даже открытой насмешки. Все его оружие – это тонкая ирония и затем несколько на вид безобидных эпитетов – «дурной», «безнравственный», «испорченный» и т. д. Слово «наглость» употреблено всего один раз – в применении к Ницше. Казалось бы, таким путем ничего и сделать нельзя, особенно в наше время, когда слово «безнравственный», по-видимому, уже давно потеряло свою прежнюю остроту, а противоположное ему слово «добродетельный», которым гр. Толстой не боится пользоваться для обозначения своего и своих, считается почти синонимом комического. И тем не менее, что может сделать талант! «Что такое искусство» является образцом полемической литературы. Сильнее сказать то, что сказал гр. Толстой – невозможно даже и вне тех условий христианской самообороны, в которые он добровольно себя поставил. Я глубоко убежден, что огромное большинство читателей, особенно русских – как бы далеки они ни были от идеалов гр. Толстого и как бы мало они ни были расположены отказываться от своих преимуществ привилегированного класса, с истинным наслаждением прочли его новое произведение и даже нашли, что «в сущности» он совершенно прав. Правда, и на этот раз, как и до сих пор было, дело «добра» нисколько не подвинулось вперед. Даже, если угодно, еще ухудшилось. Ибо между многочисленными читателями толстовской литературы, наслаждающимися художественным талантом великого мастера, есть и такие, которые на самом деле хотят у него научиться чему-нибудь и исправить свою жизнь. И на совесть этих людей слова гр. Толстого упадают свинцом, их и без того невеселая жизнь совершенно отравляется грозными нападками неумолимого судьи. «Да, мы едим, пьем, одеваемся и все берем у мужиков, которым ничего взамен не возвращаем», – повторяют они слова учителя, но сделать, конечно, ничего не могут. Они идут в деревню, куда зовет их гр. Толстой и возвращаются оттуда с новым запасом укоров совести, ибо там они ничего или почти ничего не могли сделать по той программе, которая была выработана для них в «Ясной Поляне». От них требовалось, чтоб они жили среди мужиков и по-крестьянски; они, конечно, не могли этого сделать и ушли назад в город больные, обессиленные, измученные, с тяжким сознанием громадности числящегося за ними долга. Те, которых имел или, по крайней мере, должен был иметь в виду опрокинуть своим рычагом гр. Толстой, и ухом не вели, читая его произведения. Наоборот, они с удовольствием перечитывали его новые статьи как образцы душеспасительной литературы, как они читали Евангелие, пророков. Я знал одного фабриканта миллионера, отдавшего свои деньги на проценты и считавшего себя толстовцем. И этот случай – не исключение. Наоборот, он типично выражает собой отношение читающей публики к проповеди. Да что говорить! Ведь гр. Толстой не от своего имени проповедует. Он лишь повторяет на современном языке то, чему тысячи лет тому назад учили пророки и апостолы; но, если европейские народы, столько столетий подряд признававшие Библию своей священной книгой, не исполнили ее заветов, то как гр. Толстой мог серьезно надеяться, что его слово сделает больше, чем слово его учителей! Очевидно, его обещание «это будет скоро», как и весь пафос его проповеди, относился не к действительной борьбе со злом и неправдой, а к собственным, чисто личным задачам. Ему нужно было не вне себя сделать что-нибудь, не другим помочь, а себе найти дело, удовлетворение, которого он не нашел в своих художественных трудах. «Война и мир», носившая печать полной законченности и умиротворения, сменилась «Анной Карениной», «Анна Каренина», в свою очередь казавшаяся произведением цельного и самоудовлетворенного духа, сменилась проповедью нравственности. Конец ли это? Кто может предсказать? Может быть, у гр. Толстого еще раз хватит сил и мужества сжечь то, чему он теперь поклоняется и возвестить новое слово? Теперь он отвергает свою прежнюю художественную деятельность, которой он с такой искренностью и страстностью предавался когда-то. Она ни для чего не нужна, она ничего не сделала. Но проповедь, на которую он теперь рассчитывает, сделает ли больше? И какой критерий человеческой деятельности выставит гр. Толстой тогда? Теперь он отвергает все искусство, и свое, и не свое на том основании, что оно ненужно массе. Но если и проповедь его не облегчает положения масс, то, следовательно, и ее нужно отвергнуть?
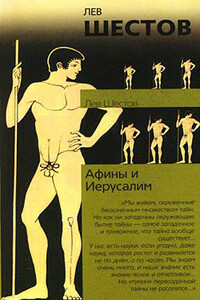
Лев Шестов – создатель совершенно поразительной; концепции «философии трагедии», во многом базирующейся на европейском средневековом мистицизме, в остальном же – смело предвосхищающей теорию экзистенциализма. В своих произведениях неизменно противопоставлял философскому умозрению даруемое Богом иррациональное откровение и выступал против «диктата разума» – как совокупности общезначимых истин, подавляющих личностное начало в человеке.

Автор выражает глубокую признательность Еве Иоффе за помощь в работе над книгой и перепечатку рукописи; внучке Шестова Светлане Машке; Владимиру Баранову, Михаилу Лазареву, Александру Лурье и Александру Севу — за поддержку автора при создании книги; а также г-же Бланш Бронштейн-Винавер за перевод рукописи на французский язык и г-ну Мишелю Карассу за подготовку французского издания этой книги в издательстве «Плазма»,Февраль 1983 Париж.
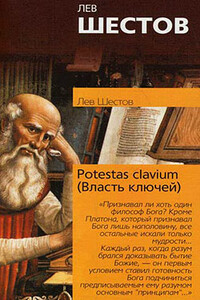
Лев Шестов – создатель совершенно поразительной концепции «философии трагедии», во многом базирующейся на европейском средневековом мистицизме, в остальном же – смело предвосхищающей теорию экзистенциализма. В своих произведениях неизменно противопоставлял философскому умозрению даруемое Богом иррациональное откровение и выступал против «диктата разума» – как совокупности общезначимых истин, подавляющих личностное начало в человеке.«Признавал ли хоть один философ Бога? Кроме Платона, который признавал Бога лишь наполовину, все остальные искали только мудрости… Каждый раз, когда разум брался доказывать бытие Божие, – он первым условием ставил готовность Бога подчиниться предписываемым ему разумом основным “принципам”…».

Лев Шестов (настоящие имя и фамилия – Лев Исаакович Шварцман) (1866–1938) – русский философ-экзистенциалист и литератор.Статья «Умозрение и Апокалипсис» посвящена религиозной философии Владимира Соловьева.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Монография посвящена исследованию становления онтологической парадигмы трансгрессии в истории европейской и русской философии. Основное внимание в книге сосредоточено на учениях Г. В. Ф. Гегеля и Ф. Ницше как на основных источниках формирования нового типа философского мышления.Монография адресована философам, аспирантам, студентам и всем интересующимся проблемами современной онтологии.
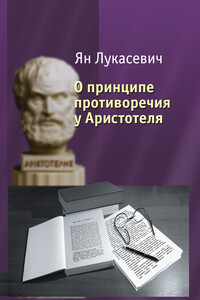
Книга выдающегося польского логика и философа Яна Лукасевича (1878-1956), опубликованная в 1910 г., уже к концу XX века привлекла к себе настолько большое внимание, что ее начали переводить на многие европейские языки. Теперь пришла очередь русского издания. В этой книге впервые в мире подвергнут обстоятельной критике принцип противоречия, защищаемый Аристотелем в «Метафизике». В данное издание включены четыре статьи Лукасевича и среди них новый перевод знаменитой статьи «О детерминизме». Книга также снабжена биографией Яна Лукасевича и вступительной статьей, показывающей мучительную внутреннюю борьбу Лукасевича в связи с предлагаемой им революцией в логике.

М.Н. Эпштейн – известный филолог и философ, профессор теории культуры (университет Эмори, США). Эта книга – итог его многолетней междисциплинарной работы, в том числе как руководителя Центра гуманитарных инноваций (Даремский университет, Великобритания). Задача книги – наметить выход из кризиса гуманитарных наук, преодолеть их изоляцию в современном обществе, интегрировать в духовное и научно-техническое развитие человечества. В книге рассматриваются пути гуманитарного изобретательства, научного воображения, творческих инноваций.

Книга – дополненное и переработанное издание «Эстетической эпистемологии», опубликованной в 2015 году издательством Palmarium Academic Publishing (Saarbrücken) и Издательским домом «Академия» (Москва). В работе анализируются подходы к построению эстетической теории познания, проблематика соотношения эстетического и познавательного отношения к миру, рассматривается нестираемая данность эстетического в жизни познания, раскрывается, как эстетическое свойство познающего разума проявляется в кибернетике сознания и искусственного интеллекта.

Автор книги профессор Георг Менде – один из видных философов Германской Демократической Республики. «Путь Карла Маркса от революционного демократа к коммунисту» – исследование первого периода идейного развития К. Маркса (1837 – 1844 гг.).Г. Менде в своем небольшом, но ценном труде широко анализирует многие документы, раскрывающие становление К. Маркса как коммуниста, теоретика и вождя революционно-освободительного движения пролетариата.

Книга будет интересна всем, кто неравнодушен к мнению больших учёных о ценности Знания, о путях его расширения и качествах, необходимых первопроходцам науки. Но в первую очередь она адресована старшей школе для обучения искусству мышления на конкретных примерах. Эти примеры представляют собой адаптированные фрагменты из трудов, писем, дневниковых записей, публицистических статей учёных-классиков и учёных нашего времени, подобранные тематически. Прилагаются Словарь и иллюстрированный Указатель имён, с краткими сведениями о характерном в деятельности и личности всех упоминаемых учёных.

Лев Шестов – философ не в традиционном понимании этого слова, а в том же смысле, в каком философичны Шекспир, Достоевский и Гете. Почти все его произведения – это блестящие, глубокие неподражаемо оригинальные литературные экскурсы в философию. Всю свою жизнь Шестов посвятил не обоснованию своей собственной системы, не созданию своей собственной концепции, но делу, возможно, столь же трудному – отстраненному и непредвзятому изучению чужих философских построений, борьбе с рационалистическими идеями «разумного понимания» – и, наконец, поистине гениальному осознанию задачи философии как науки «поучить нас жить в неизвестности»…