Дитя двух семей. Приемный ребенок в семье - [2]
Во многих культурах существовали и обряды усыновления. Обычно они имитировали роды и могли применяться (и в основном применялись) к взрослым людям: к примеру, если к родовому племени присоединялся скиталец-одиночка или нужно было «оформить» имущество присоединившегося к общине. Где-то «чужака» травили, где-то, наоборот, ценили и считали особенным. Так, герои мифов и преданий – часто «чужие» дети, потомки богов или духов. Но, приравняв человека (в том числе ребенка) к членам семьи в смысле прав и обязанностей, тайны из его происхождения, конечно, не делали.
Так мир менялся, а в последние сто-двести лет менялся с головокружительной скоростью. Жизнь в городах больше не определялась традициями общины, заниматься судьбой детей, оставшихся без родителей, стали другие инстанции – церковь, городские власти, государство. Хотя большинство осиротевших детей по-прежнему попадали под опеку в семьи родственников, а в деревнях ими по-прежнему занималась община, появились сироты «ничьи». Чаще «ничьими» оказывались дети либо родителей, безнадежно обнищавших в городе и утративших связи с деревенской родней, либо незаконнорожденные, либо дети людей, осужденных за преступления. Так тема сиротства стала сплетаться с темой стыда, греха, вины. То, что прежде воспринималось лишь как несчастье ребенка, его злая доля, становилось клеймом, постыдной тайной, дурными корнями. Поскольку сироты чаще всего воспитывались при церквях или в религиозных приютах и школах, ханжества и презрения к их кровным родителям хватало. О них либо не говорили вовсе, либо их участью пугали и стыдили детей.
Параллельно изменялись и семьи. В городах люди стали жить отдельными – нуклеарными – семьями по принципу: одна семья – один дом. И если раньше бездетная женщина могла найти себя и удовлетворить свой материнский инстинкт, возясь с многочисленными племянниками и прочими родственниками младшего возраста, и при этом она была востребована, уважаема и любима, то теперь эти возможности для нее резко сузились. Она могла вязать племянникам чепчики и приглашать их в гости, но и только.
Также осложнилось положение мужчины: если раньше он приумножал своим трудом или защищал с оружием в руках общее состояние большого семейного клана и для него не так важно было «непременно оставить своего наследника», то теперь мужчина без своих детей не понимал, для кого он работает, кому оставит свое дело, опыт, состояние, дом. А если некому – тогда зачем все, ведь с собой на тот свет не унесешь?
Кроме того, непонятно было, как жить в старости. В семье-общине и дети, и старики общие, а что делать состарившимся в городе супругам или вдове, если нет детей, которые о них позаботятся?
При этом бездетность, неспособность родить ребенка для большинства была бедой и знаком своей «неполноценности», нереализованности в мире. То есть вызывало стыд, чувство вины и уязвимости. Новая городская реальность, жизнь отдельными нуклеарными семьями у людей с традиционной системой ценностей эти чувства многократно усиливала.
Вот на таком социальном и эмоциональном фоне и проходило становление процедуры официального, государственного усыновления. С одной стороны – «позорные», «неправильные» дети, с другой – «неполноценные», «неправильные» семьи. Неудивительно, что из такого сплава и возникла идея сохранения тайны приема ребенка в семью. Ведь если никто не будет знать, что ребенок усыновлен, можно жить «как все», быть «нормальными», не боясь осуждения и отчуждения в социуме. Все это более чем понятно, тем более что социум и правда мог затравить ребенка, про которого, например, стало бы известно, что он незаконнорожденный. Слова «толерантность» тогда еще никто не знал. Так год за годом складывалось и укреплялось «очевидное» правило: лучше, чтобы никто ничего не знал. Максимального развития этот подход достиг сразу после Второй мировой войны, когда было немало детей как осиротевших, так и незаконнорожденных (в том числе и рожденных «от врагов», в результате насильственных контактов). Интересно, что в Советском Союзе, лишенном вроде религиозных предрассудков, скрывать от окружающих и от самих детей их происхождение начали в связи с «неправильными», «постыдными» родителями – когда появилось много осиротевших детей «врагов народа».
Со временем в идее сохранения тайны усыновления все меньше оставалось защиты от социума, и все больше было защиты ребенка (и его приемных родителей) от правды, связанной с его происхождением. Да и сама эта правда оказывалась все тяжелее: сиротами во второй половине XX века в основном становились не из-за физической смерти родителей, а по причине их отказа от детей или неспособности быть родителями: жестокого обращения, алкоголизма, наркомании. Казалось несомненным, что самое лучшее для ребенка, потерявшего родителей, тем более «плохих» родителей – забыть все, как дурной сон, начать жизнь с чистого листа, искренне верить, что ты был, как все, рожден в своей семье, с самого рождения был желанен и окружен любовью.
Будущие усыновители разрабатывали все более сложные стратегии сохранения тайны, меняли место жительства и работу, заранее привязывали будущей приемной маме искусственный «живот», подбирали ребенка по цвету глаз и группе крови, меняли задним числом его дату рождения, чтобы подогнать под срок заявленных окружающим «родов». Появилась целая «индустрия тайны» – резиновые животы, постепенно увеличивающиеся в размерах, услуги посредников, помогающих найти ребенка «по параметрам» и точно в срок. Некоторые ухитрялись сохранить тайну даже от собственных родителей и старших детей.
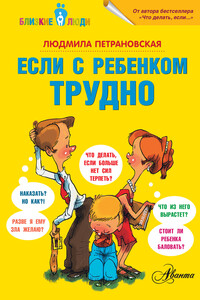
Новая книга известного семейного психолога, лауреата премии президента РФ в области образования, автора бестселлеров «Что делать, если…» и «Что делать, если… 2» адресована родителям детей и подростков с особенностями поведения. Издание поможет найти с ребенком общий язык, сориентироваться в сложных ситуациях и конфликтах, достойно выйти из них, сохранить терпение, восстановить понимание и мир в семье.
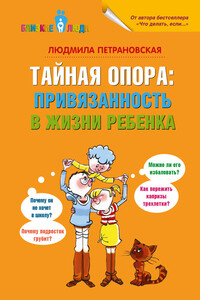
Людмила Петрановская – автор серии книг для детей «Что делать, если…», известный психолог-педагог, руководитель вебинаров на тему взаимоотношений в семье и лауреат премии Президента РФ представляет продолжение серии «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ: психология отношений». Книга будет полезна не только молодым мамам, но и тем, кто хочет переосмыслить отношения со своим возможно уже повзрослевшим ребенком.
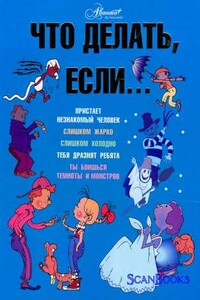
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
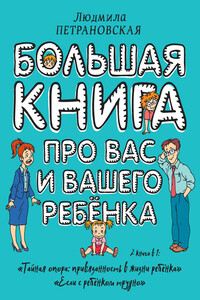
Эту книгу стоило бы прочесть всем родителям. И тем, кого заботит легкое недопонимание, и тем, кто уже было отчаялся найти общий язык с детьми. В ней мы собрали две книги в одной: «Тайная опора: привязанность в жизни ребенка» и «Если с ребенком трудно» – книги, которые могут избавить вас и вашего ребенка от тонн психологической макулатуры.Нередко, став взрослыми, мы забываем, что некогда и сами были детьми. В первой части книги, основываясь на научной теории привязанности, Людмила Петрановская легко и доступно рассказывает о роли родителей на пути к взрослению: «Как зависимость и беспомощность превращаются в зрелость?» и «Как наши любовь и забота год за годом формируют в ребенке тайную опору, на которой, как на стержне, держится его личность?» Вы сможете увидеть, что на самом деле стоит за детскими «капризами», «избалованностью», «агрессией», «вредным характером».Во второй части книги Людмила расскажет о том, как научиться ориентироваться в сложных ситуациях, решать конфликты и достойно выходить из них.
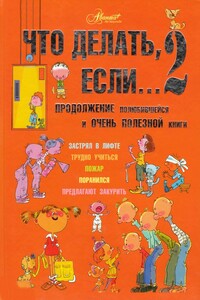
В новой книге известного психолога речь пойдёт о выборе, о принятии решений, об ответственности, о том, как важно уметь оценивать риски. Она станет умным собеседником для школьников и бесценным помощником для их родителей.
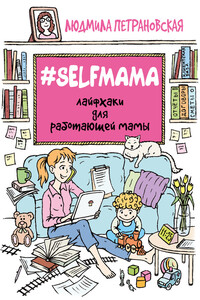
Дети или работа? Молодые и талантливые женщины мучают себя этим вопросом со времени появления джинсов и домашнего интернета. А что, если попробовать не выбирать? Людмила Петрановская умело доказывает: быть хорошей матерью и отличным работником – возможно! Хватит мучиться угрызениями совести и переживать. У работающих мам вырастают замечательные дети!«Селфмама. Лайфхаки для работающей мамы» – это практические советы для современных мам, которые стремятся уделять равное количество сил и энергии каждой из сторон своей личности.
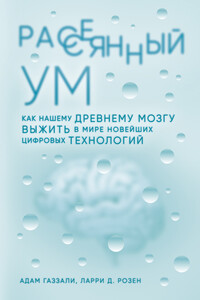
«На двух стульях не усидишь» – это научно доказано психологом Ларри Д. Розеном и нейробиологом Адамом Газзали! Каждый раз, когда вы одновременно пытаетесь писать сообщение и смотреть новости или читать книгу и слушать музыку, ваш мозг дает сбой – он не приспособлен к многозадачности. А в мире, наполненном смартфонами, социальными сетями и различными информационными ресурсами, его шансы на успех и вовсе стремятся к нулю: рассеянность становится главным спутником жизни. Ее причины, последствия и способы преодоления вы найдете в этой книге.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Если вам не ЗНАКОМО чувство краха, ожидания и бессилия, когда терзаешь себя и не знаешь, что делать дальше. Когда почти потерял веру в себя. Когда не принимают таким, какой ты есть. И тебя не ценят, как бы ты ни старался… ТОГДА я предлагаю ВАМ увлекательные ИГРЫ РАЗУМА. И теперь у меня есть возможность, как и у Вас, смоделировать этот опыт и предложить свою руку, конкретные эффективные шаги, как следствие — проверить это на практике и наблюдать эту трансформацию у себя!
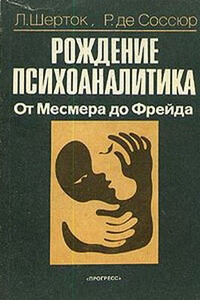
Léon Chertok, Raymond de Saussure. Naissance du psychanalyste: de Mesmer à Freud (1973) М.: Прогресс, 1991. — 288с. ISBN 5-01-002509 Перевод с французского и вступительная статья доктора философских наук Н. С. Автономовой В книге излагается история психотерапевтических учений, начиная с концепции «животного магнетизма» Месмера и кончая открытием бессознательного в психике человека и возникновением психоанализа Фрейда. В электронной версии книги нет Указателя.
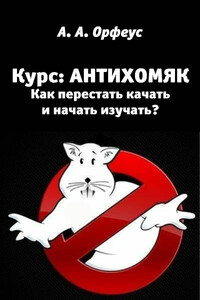
Эта книга о том, как перестать качать гигабайты книг, курсов и других инфопродуктов и начать наконец их изучать, а не просто скачивать и складывать "прозапас" на будущее.
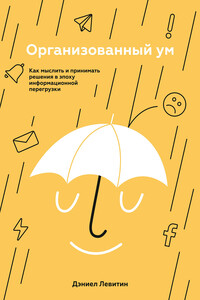
Автор бестселлеров и нейробиолог Дэниел Левитин рассказывает, как организовать свое время, дом и рабочее место, чтобы справиться с информационной перегрузкой и действовать максимально продуктивно. Он объясняет, как устроен наш мозг, и показывает, как применить последние данные когнитивной науки к обычной жизни – работе, здоровью, отношениям, – чтобы управлять информационным потоком, правильно организовывать свое время и не захламлять личное пространство. Эта книга для каждого, кто хочет научиться систематизировать и категоризировать информацию, делать правильный выбор при огромном количестве возможностей и отделять главное от второстепенного. На русском языке публикуется впервые.
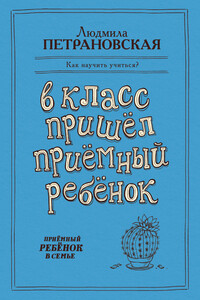
«У нас проблемы в школе!» – едва ли не самая распространенная жалоба приемных родителей. Как это ни грустно, но нередко именно из-за этих трудностей и неуспеваемости и появляются отказники. Придя в новую школу, приемному ребенку трудно адаптироваться, а детям и учителям побороть возникающие, как следствие, недовольство и смятение.Книга «В класс пришел приемный ребенок» адресована школьным учителям, педагогам специального образования и тем, кто решился на очень важный и трудный шаг – усыновить ребенка.