Детские годы Багрова-внука - [61]
Слова: жених, невеста, сватанье и свадьба были мне давно известны и давно объяснены матерью настолько, насколько я мог и должен был понимать их, так сказать, внешний смысл. Прилагая тогда мои понятия к настоящему случаю, я говорил Параше и Евсеичу: «Как же тетеньке выйти замуж за Рожнова? Жена должна помогать мужу; она такая сухонькая, а он такой толстый; она его не поднимет, если он упадет». Параша, смеясь, отвечала мне вопросом: «Да зачем же ему падать?» Но у меня было готово неопровержимое доказательство: я возразил, что «сам видел, как один раз отец упал, а маменька его подняла и ему помогла встать». Впоследствии, когда мои слова сделались известны всем тетушкам, они заставляли меня повторять их (всегда без матери) и так хохотали, что приводили меня в совершенное изумление.
Когда нас с сестрицей позвали обедать, все сидели уже за столом. Слава богу, мы только поклонились гостям, а то я боялся, что они будут нас обнимать и как-нибудь задушат. Целый обед я не спускал глаз с жениха: он так ел, что страшно было смотреть. Я заметил, что у всех невольно обращались глаза на его тарелку. Маменька его тоже кушала исправно, но успевала говорить и хвалить своего сынка. По ее словам, он был самый смирный и добрый человек, который и мухи не обидит; в то же время прекрасный хозяин, сам ездит в поле, всё разумеет и за всем смотрит, и что одна у него есть утеха — борзые собачки. Она жаловалась только на его слабое здоровье и говорила, что так бережет его, что спать кладет у себя в опочивальне; она прибавила, с какими-то гримасами на лице, что Митенька будет совсем здоров, когда женится, и что если бог даст ему судьбу, то не бессчастна будет его половина. Произнося последние слова, она бросала выразительные взгляды на тетушку Татьяну Степановну, которая краснела и потупляла глаза и лицо в тарелку. После обеда, за которым жених, видно, чересчур покушал, он тотчас начал дремать. Мать извиняла его привычкой отдыхать после обеда; но, видя, что он того и гляди повалится и захрапит, велела заложить лошадей и, рассыпаясь в разных извинениях, намеках и любезностях, увезла своего слабого здоровьем Митеньку. Когда уехали гости, много было шуток и смеху, и тетушка объявила, что ни за что на свете не пойдет за такого урода и увальня, чему я был рад. Жениху дали знать стороною о нерасположении невесты — и дальнейшего формального сватовства не было.
ПЕРВАЯ ВЕСНА В ДЕРЕВНЕ
В середине великого поста, именно на середокрестной неделе, наступила сильная оттепель. Снег быстро начал таять, и везде показалась вода. Приближение весны в деревне производило на меня необыкновенное раздражающее впечатление. Я чувствовал никогда не испытанное мною, особого рода волнение. Много содействовали тому разговоры с отцом и Евсеичем, которые радовались весне, как охотники, как люди, выросшие в деревне и страстно любившие природу, хотя сами того хорошенько не понимали, не определяли себе и сказанных сейчас мною слов никогда не употребляли. Находя во мне живое сочувствие, они с увлеченьем предавались удовольствию рассказывать мне: как сначала обтают горы, как побегут с них ручьи, как спустят пруд, разольется полая вода, пойдет вверх по полоям рыба, как начнут ловить ее вятелями и мордами; как прилетит летняя птица, запоют жаворонки, проснутся сурки и начнут свистать, сидя на задних лапках по своим сурчинам; как зазеленеют луга, оденется лес, кусты и зальются, защелкают в них соловьи… Простые, но горячие слова западали мне глубоко в душу, потрясали какие-то неведомые струны и пробуждали какие-то неизвестные томительные и сладкие чувства. Только нам троим, отцу, мне и Евсеичу, было не грустно и не скучно смотреть на почерневшие крыши и стены строений и голые сучья дерев, на мокреть и слякоть, на грязные сугробы снега, на лужи мутной воды, на серое небо, на туман сырого воздуха, на снег и дождь, то вместе, то попеременно падавшие из потемневших низких облаков. Заключенный в доме, потому что в мокрую погоду меня и на крыльцо не выпускали, я тем не менее следил за каждым шагом весны. В каждой комнате, чуть ли не в каждом окне, были у меня замечены особенные предметы или места, по которым я производил мои наблюдения: из новой горницы, то есть из нашей спальни, с одной стороны виднелась Челяевская гора, оголявшая постепенно свой крутой и круглый взлобок, с другой — часть реки давно растаявшего Бугуруслана, с противоположным берегом; из гостиной чернелись проталины на Кудринской горе, особенно около круглого родникового озера, в котором мочили конопли; из залы стекленелась лужа воды, подтоплявшая грачовую рощу; из бабушкиной и тетушкиной горницы видно было гумно на высокой горе и множество сурчин по ней, которые с каждым днем освобождались от снега. Шире, длиннее становились грязные проталины, полнее наливалось озеро в роще, и, проходя сквозь забор, уже показывалась вода между капустных гряд в нашем огороде. Всё замечалось мною точно и внимательно, и каждый шаг весны торжествовался, как победа! С утра до вечера бегал я из комнаты в комнату, становясь на свои наблюдательные сторожевые места. Чтенье, письмо, игры с сестрой, даже разговоры с матерью — всё вылетело у меня из головы. О том, чего не мог видеть своими глазами, получал я беспрестанные известия от отца, Евсеича, из девичьей и лакейской. «Пруд посинел и надулся, ездить по нем опасно, мужик с возом провалился, подпруда подошла под водяные колеса, молоть уж нельзя, пора спускать воду; Антошкин овраг ночью прошел, да и Мордовский напружился и почернел, скоро никуда нельзя будет проехать; дорожки начали проваливаться, в кухню не пройдешь. Мазан провалился с миской щей и щи пролил, мостки снесло, вода залила людскую баню», — вот что слышал я беспрестанно, и неравнодушно принимались все такие известия. Грачи давно расхаживали по двору и начали вить гнезда в грачовой роще; скворцы и жаворонки тоже прилетели. И вот стала появляться настоящая птица, дичь, по выражению охотников. Отец с восхищением рассказывал мне, что видел лебедей, так высоко летевших, что он едва мог разглядеть их, и что гуси потянулись большими станицами. Евсеич видел нырков и кряковых уток, опустившихся на пруд, видел диких голубей по гумнам, дроздов и пигалиц около родников… Сколько волнений, сколько шумной радости! Вода сильно прибыла. Немедленно спустили пруд — и без меня. Погода была слишком дурна, и я не смел даже проситься. Рассказы отца отчасти удовлетворили моему любопытству. С каждым днем известия становились чаще, важнее, возмутительнее! Наконец Евсеич с азартом объявил, что «всякая птица валом валит, без перемежки!» Переполнилась мера моего терпенья. Невозможно стало для меня всё это слышать и не видеть, и с помощью отца, слез и горячих убеждений выпросил я позволенья у матери, одевшись тепло, потому что дул сырой и пронзительный ветер, посидеть на крылечке, выходившем в сад, прямо над Бугурусланом. Внутренняя дверь еще не была откупорена. Евсеич обнес меня кругом дома на руках, потому что везде была вода и грязь. В самом деле, то происходило в воздухе, на земле и на воде, чего представить себе нельзя, не видавши, и чего увидеть теперь уже невозможно в тех местах, о которых я говорю, потому что нет такого множества прилетной дичи. Река выступила из берегов, подняла урему на обеих сторонах и, захватив половину нашего сада, слилась с озером грачовой рощи. Все берега полоев были усыпаны всякого рода дичью; множество уток плавало по воде между верхушками затопленных кустов, а между тем беспрестанно проносились большие и малые стаи разной прилетной птицы: одни летели высоко, не останавливаясь, а другие — низко, часто опускаясь на землю; одни стаи садились, другие поднимались, третьи перелетывали с места на место: крик, писк, свист наполнял воздух. Не зная, какая это летит или ходит птица, какое ее достоинство, какая из них пищит или свистит, я был поражен, обезумлен таким зрелищем. Отец и Евсеич, которые стояли возле меня, сами находились в большом волненье. Они указывали друг другу на птицу, называли ее по имени, отгадывая часто по голосу, потому что только ближнюю можно было различить и узнать по перу. «Шилохвостя, шилохвостя-то сколько! — говорил торопливо Евсеич. — Эки стаи! А кряковны-то! батюшки, видимо-невидимо!» — «А слышишь ли, — подхватывал мой отец, — ведь это степняги, кроншнепы заливаются! Только больно высоко. А вот сивки играют над озимями, точно… туча! Веретенников-то сколько! а турухтанов-то — я уже и не видывал таких стай!» — Я слушал, смотрел и тогда ничего не понимал, что вокруг меня происходило: только сердце то замирало, то стучало, как молотком; но зато после всё представлялось, даже теперь представляется мне ясно и отчетливо, доставляло и доставляет неизъяснимое наслаждение!. . и всё это понятно вполне только одним охотникам! Я и в ребячестве был уже в душе охотник, и потому можно судить, что я чувствовал, когда воротился в дом! Я казался, я должен был казаться каким-то полоумным, помешанным; глаза у меня были дикие, я ничего не видел, ничего не слышал, что со мной говорили. Я держался за руку отца, пристально смотрел ему в глаза и с ним только мог говорить, и только о том, что мы сейчас видели. Мать сердилась и грозила, что не будет пускать меня, если я не образумлюсь и не выброшу сейчас из головы уток и куликов. Боже мой, да разве можно было это сделать!. . Вдруг грянул выстрел под самыми окнами, я бросился к окошку и увидел дымок, расходящийся в воздухе, стоящего с ружьем Филиппа (старый сокольник) и пуделя Тритона, которого все звали «Трентон», который, держа во рту за крылышко какую-то птицу, выходил из воды на берег. Скоро Филипп пришел с своей добычей: это был кряковный селезень, как мне сказали, до того красивый пером, что я долго любовался им, рассматривая его бархатную зеленую голову и шею, багряный зоб и темно-зеленые косички в хвосте.

Как ведут себя животные в «их домашней жизни», когда им не грозит опасность, как устраивают свои жилища, как «воспитывают» детёнышей — об этом написано много. В этой книге собраны коротенькие рассказы русских писателей. Вы прочтёте здесь о кошках, о зайцах, о муравьях, о волках, о воробьях, о лебедях, о лисе и о медведе.

В книгу вошли известные сказки русских писателей XIX века: волшебная повесть «Чёрная курица, или Подземные жители» Антония Погорельского (1787–1836); «Аленький цветочек» Сергея Тимофеевича Аксакова (1791–1859); «Девочка Снегурочка», «Про мышь зубастую да про воробья богатого», «Лиса лапотница» Владимира Ивановича Даля (1801–1872); «Городок в табакерке» и «Мороз Иванович» Владимира Фёдоровича Одоевского (1804–1869); «Конёк-горбунок» Петра Павловича Ершова (1815–1869); «Работник Емельян и пустой барабан», «Праведный судья» Льва Николаевича Толстого (1828–1910); «Лягушка-путешественница» и «Сказка о жабе и розе» Всеволода Михайловича Гаршина (1855–1888). Все сказки наполнены глубоким смыслом и обладают непреходящей ценностью.

Сказку «Аленький цветочек» записал известный русский писатель Сергей Тимофеевич Аксаков (1791–1859). Он услышал ее в детстве во время своей болезни. Писатель так рассказывает об этом в повести «Детские годы Багрова-внука»:«Скорому выздоровлению моему мешала бессонница… По совету тетушки, позвали один раз ключницу Пелагею, которая была великая мастерица сказывать сказки и которую даже покойный дедушка любил слушать… Пришла Пелагея, немолодая, но еще белая, румяная… села у печки и начала говорить, немного нараспев: „В некиим царстве, в некиим государстве…“Нужно ли говорить, что я не заснул до окончания сказки, что, напротив, я не спал долее обыкновенного?На другой же день выслушал я в другой раз повесть об „Аленьком цветочке“.
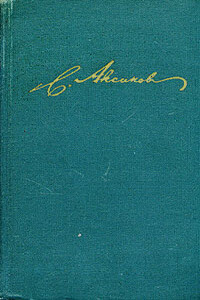
Чародей слова, проникновенный поэт природы, тонкий психолог — таким вошел в сердце русского читателя автор "Семейной хроники" и "Детских годов Багрова- внука". Также в книгу входит сказка Аленький цветочек.Содержит цветные иллюстрации.Аксаков С. Т. Собрание сочинений в 5 т.М., Правда, 1966; (библиотека «Огонек»)Том 1. — Семейная хроника; Детские годы Багрова-внука. — 599 с. — с. 55–260.

От издателяВ сборник вошли стихи и рассказы русских поэтов и писателей о нашей родной природе, а также русские народные загадки, приметы, пословицы и народный календарь.
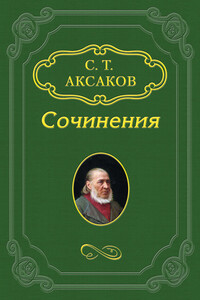
«В середине зимы 1799 года приехали мы в губернский город Казань. Мне было восемь лет. Морозы стояли трескучие, и хотя заранее были наняты для нас две комнаты в маленьком доме капитанши Аристовой, но мы не скоро отыскали свою квартиру, которая, впрочем, находилась на хорошей улице, называющейся «Грузинскою». Мы приехали под вечер в простой рогожной повозке, на тройке своих лошадей (повар и горничная приехали прежде нас); переезд с кормежки сделали большой, долго ездили по городу, расспрашивая о квартире, долго стояли по бестолковости деревенских лакеев, – и я помню, что озяб ужасно, что квартира была холодна, что чай не согрел меня и что я лег спать, дрожа как в лихорадке; еще более помню, что страстно любившая меня мать также дрожала, но не от холода, а от страха, чтоб не простудилось ее любимое дитя, ее Сереженька…».

Соседка по пансиону в Каннах сидела всегда за отдельным столиком и была неизменно сосредоточена, даже мрачна. После утреннего кофе она уходила и возвращалась к вечеру.

Алексей Алексеевич Луговой (настоящая фамилия Тихонов; 1853–1914) — русский прозаик, драматург, поэт.Повесть «Девичье поле», 1909 г.

«Лейкин принадлежит к числу писателей, знакомство с которыми весьма полезно для лиц, желающих иметь правильное понятие о бытовой стороне русской жизни… Это материал, имеющий скорее этнографическую, нежели беллетристическую ценность…»М. Е. Салтыков-Щедрин.

«Сон – существо таинственное и внемерное, с длинным пятнистым хвостом и с мягкими белыми лапами. Он налег всей своей бестелесностью на Савельева и задушил его. И Савельеву было хорошо, пока он спал…».

