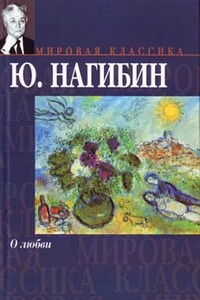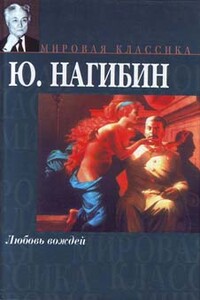Дети не должны знать - [2]
Едва взглянув на часы, он понял, что опаздывает. Нечего и думать о том, чтобы сделать гимнастику, принять душ, он даже одеться не успеет. И, чувствуя несвежесть рта, вялость суставов и мышц, влажное, слабое, вяжущее ночное тепло в непроснувшемся теле, он, как был, в пижаме, устремился к двери. Он сбежал по лестнице, мимо удивленного швейцара выскочил на улицу, тихую, пустынную, накрытую густой тенью буков, и упал на сафьяновое сиденье машины. Задохнувшись от бега, он лишь молча махнул рукой шоферу: гони!.. Да тот и сам понимал, что времени в обрез, и рванул с места, словно сидел за рулем гоночной машины, а не добропорядочного «мерседеса».
Привычно мелькали улицы, «мерседес» с ходу врезался в толпу пешеходов на мостовой, но, как и обычно, все оборачивалось лишь чьим-то испуганным вскриком, проклятьем, шорохом одежды и щелчком пуговиц по лакированному борту, и впереди возникал просвет, и машина алчно пожирала его, чтобы вновь, на перекрестке, ворваться в мельтешащее человечье месиво. Промелькнула, как всегда оскорбив зрение, гигантская белая пишущая машинка — огромный, до слез нелепый и неуместный в Риме памятник королю Виктору-Эммануилу, и вот уже они на виа Кавура, и «мерседес», взрыдав тормозами, прочно стал у знакомого подъезда с кариатидами.
Он вихрем взлетел по лестнице, отпер своим старым ключом входную дверь, в два скачка перемахнул прихожую, ворвался в спальню и юркнул в постель под бок темноволосой, черноглазой женщине. Анна накинулась на него с упреками: неужели нельзя приходить хоть на десять минут раньше? Она вконец изолгалась, чтобы скрыть его отсутствие. Он не успел ответить, дверь распахнулась, и стройное, смуглое, длинноногое, неуклюже-грациозное, застенчивое и ликующее чудо кинулось к нему с криком: «Сонная тетеря!.. Сонная тетеря!»
Как мило и странно слились в ней строгая черная красота матери и его губастая светлоглазая мягкость! Еще щенок, увалень, скорее мальчик, чем девочка, она уже несла в себе тайну женского очарования, до сих пор не погасшего в ее матери. Преисполненный благодарности к Анне, сотворившей это прелестное, радостное существо, он поцеловал ее в плечо. И, смутившись, тут же попросил прощения у своей бывшей, но навсегда единственно законной жены. Она ласково, понимающе улыбнулась ему…
А потом был веселый завтрак втроем и рассказы дочери о школе — она талантливо копировала учителей, а он показывал, как читал бы стихотворение о козленке поэт-битник, сонный монах, крестьянин с флюсом и солдат-новобранец из глубокой провинции. Спать ему уже не хотелось, он от души наслаждался вкусным кофе и гренками, легким смехом дочери, всей милой, заурядной добропорядочностью семейного ритуала и не мог понять, почему Анна все время толкает его ногой под столом. И так же не мог понять, почему девочку поспешно, не обращая внимания на ее протестующие вопли, извлекли из-за стола и отправили в школу, хотя по болезни учителя занятия в этот день начинались на полтора часа позже.
Едва за дочерью захлопнулась дверь, Анна принялась кричать:
— Ты совсем отупел!.. Я отбила пальцы о твою костлявую ногу!..
— О чем ты?..
— Ты безбожно опаздываешь!.. Хочешь, чтоб Лиззи устроила мне скандал?..
— Да… да… — пробормотал он благодарно и смущенно и уже через минуту мчался домой на виа Корсо.
Им не везло со светофорами, и, когда он ворвался в спальню, глаза у Лиззи были большими, черными, блестящими от ярости.
— Черт знает что!.. Неужели Анна не могла прогнать тебя раньше?
— Я сам виноват, заговорился с дочерью, — смиренно ответил он, вытягиваясь под одеялом и погружаясь в привычную стихию запахов, прикосновений и тепла.
И сразу распахнулась дверь, и на руках няньки вплыла в чем-то красном, воздушном, кружевном его маленькая дочь и, рванувшись из мускулистых, загорелых рук красавицы сицилианки, с самозабвенным смехом нырнула в постель между отцом и матерью, словно между двумя рифами. Малышке было всего два с половиной года, но она уже все понимала, и попробуй отец не оказаться на положенном месте!..
— Мы видели его на перегоне от нынешней семьи к бывшей, — так закончился коллективный рассказ, — и он по обыкновению опаздывал…
— Что ж, — сказал я бывалым тоном практического мудреца, — это обременительно, но все же не смертельно.
Конечно, согласились друзья. Смертельно другое. Измученный этой двойной жизнью и вечными недосыпами, спешкой и риском в какой-то миг слабости разрушить хрупкое здание из лжи, любви и ханжеской благопристойности, он выплакался на груди милой, скромной статисточки, снимавшейся в массовке. Она напомнила ему пьемонтских подруг его юности: та же свежесть, чистота, запах скошенного луга и парного молока. Сейчас она ждет ребенка и ко всему еще обитает в предместье Рима…
Рим

Молодая сельская учительница Анна Васильевна, возмущенная постоянными опозданиями ученика, решила поговорить с его родителями. Вместе с мальчиком она пошла самой короткой дорогой, через лес, да задержалась около зимнего дуба…Для среднего школьного возраста.

В сборник вошли последние произведения выдающегося русского писателя Юрия Нагибина: повести «Тьма в конце туннеля» и «Моя золотая теща», роман «Дафнис и Хлоя эпохи культа личности, волюнтаризма и застоя».Обе повести автор увидел изданными при жизни назадолго до внезапной кончины. Рукопись романа появилась в Независимом издательстве ПИК через несколько дней после того, как Нагибина не стало.*… «„Моя золотая тёща“ — пожалуй, лучшее из написанного Нагибиным». — А. Рекемчук.

В настоящее издание помимо основного Корпуса «Дневника» вошли воспоминания о Галиче и очерк о Мандельштаме, неразрывно связанные с «Дневником», а также дается указатель имен, помогающий яснее представить круг знакомств и интересов Нагибина.Чтобы увидеть дневник опубликованным при жизни, Юрий Маркович снабдил его авторским предисловием, объясняющим это смелое намерение. В данном издании помещено эссе Юрия Кувалдина «Нагибин», в котором также излагаются некоторые сведения о появлении «Дневника» на свет и о самом Ю.

Дошкольник Вася увидел в зоомагазине двух черепашек и захотел их получить. Мать отказалась держать в доме сразу трех черепах, и Вася решил сбыть с рук старую Машку, чтобы купить приглянувшихся…Для среднего школьного возраста.

Семья Скворцовых давно собиралась посетить Богояр — красивый неброскими северными пейзажами остров. Ни мужу, ни жене не думалось, что в мирной глуши Богояра их настигнет и оглушит эхо несбывшегося…

Довоенная Москва Юрия Нагибина (1920–1994) — по преимуществу радостный город, особенно по контрасту с последующими военными годами, но, не противореча себе, писатель вкладывает в уста своего персонажа утверждение, что юность — «самая мучительная пора жизни человека». Подобно своему любимому Марселю Прусту, Нагибин занят поиском утраченного времени, несбывшихся любовей, несложившихся отношений, бесследно сгинувших друзей.В книгу вошли циклы рассказов «Чистые пруды» и «Чужое сердце».

Эта книга написана о людях, о современниках, служивших своему делу неизмеримо больше, чем себе самим, чем своему достатку, своему личному удобству, своим радостям. Здесь рассказано о самых разных людях. Это люди, знаменитые и неизвестные, великие и просто «безыменные», но все они люди, борцы, воины, все они люди «переднего края».Иван Васильевич Бодунов, прочитав про себя, сказал автору: «А ты мою личность не преувеличил? По памяти, был я нормальный сыщик и даже ошибался не раз!».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
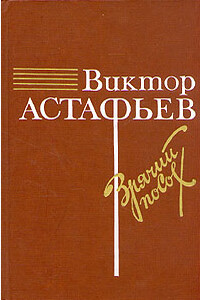
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Повесть «Этот синий апрель…» — третье прозаическое произведение М. Анчарова.Главный герой повести Гошка Панфилов, поэт, демобилизованный офицер, в ночь перед парадом в честь 20-летия победы над фашистской Германией вспоминает свои встречи с людьми. На передний план, оттеснив всех остальных, выходят пять человек, которые поразили его воображение, потому что в сложных жизненных ситуациях сумели сохранить высокий героизм и независимость. Их жизнь — утверждение высокой человеческой нормы, провозглашенной революцией.

Книга прозы известного советского поэта Константина Ваншенкина рассказывает о военном поколении, шагнувшем из юности в войну, о сверстниках автора, о народном подвиге. Эта книга – о честных и чистых людях, об истинной дружбе, о подлинном героизме, о светлой первой любви.
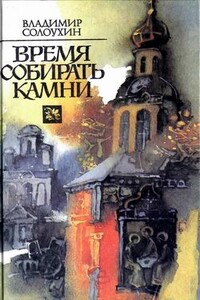
В книгу Владимира Алексеевича Солоухина вошли художественные произведения, прошедшие проверку временем и читательским вниманием, такие, как «Письма из Русского Музея», «Черные доски», «Время собирать камни», «Продолжение времени».В них писатель рассказывает о непреходящей ценности и красоте памятников архитектуры, древнерусской живописи и необходимости бережного отношения к ним.
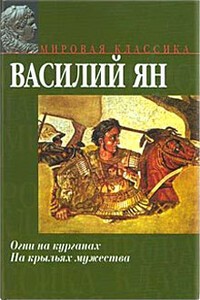
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
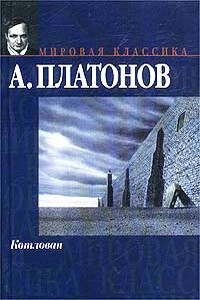
Андрей Платонов (1899-1951) по праву считается одним из лучших писателей XX века. Однако признание пришло к нему лишь после смерти. Повесть «Котлован» является своеобразным исключением в творчестве Платонова — он указал точную дату ее создания: «декабрь 1929 — апрель 1930 года». Однако впервые она была опубликована в 1969 года в ФРГ и Англии, а у нас в советское время в течение двадцати лет распространялась лишь в «самиздате».В «Котловане» отражены главные события проводившейся в СССР первой пятилетки: индустриализация и коллективизация.