Десятилетие клеветы: Радиодневник писателя - [71]
2004
Интересно, что Куняев почувствовал опасность как раз через год после того, как стало ясно, что оруэлловский «1984» не состоялся… Еще через несколько лет, уже в стихах, он впал в паническое состояние: «Защити нас, ЦК и Лубянка, больше некому нас защитить!» Отвергая демократию, он и не понимал в ней ни черта, иначе бы сообразил, что даже нацболам при демократии нечего опасаться. Вот как сидел он, так и сидит в своем «Нашем современнике» и теперь может, не кривя душой, поговорить о рыночной масс-культуре. Платоновской республики в РФ не получилось.
АФИША ГЛАСИЛА
(К 120-летию Чехова)
Прошлый, столь многозначительный 1984-й начался для меня скорее под знаком Чехова, чем Оруэлла. Ночью в Париже через площадь Трокадеро я увидел на фасаде театра оранжевую афишу с черной кириллицей, напоминавшей в этом латинском мире супрематический рисунок раннего русского авангарда. Афиша гласила… Позвольте, разве это не Чехов? Можно ли найти ночью в Париже — от кафе, через площадь, к стене театра — нечто более чеховское, чем начало фразы «афиша гласила»? Тут же возникает явление Чехова под мягкой шляпой. Подслеповатый денди, измученный туберкулезным эротизмом, на грани двух стихий — вздорного ялтинского шторма с перекатом через парапет и имперской обыденщины с ее афишами, которые гласили…
Итак, афиша на площади Трокадеро гласила имена двух птиц: «Чайка» и «Цапля», его и моя, обе воплощают мечту, хотя и питаются всяческой гадостью. Далее по-французски имена авторов и всех тех, кто что-то делал в этих двух параллельных спектаклях Национального театра «Шайо». По-французски Чехов лишается своей коронной «Ч» и приобретает какую-то потустороннюю комбинацию «ТСН»; в языке Мольера, увы, нет всех этих «чаев», «чушек», «чар»; кроме того, туда до Милана Кундеры еще не пробирался ни один «чех», как это произошло в таганрогской торговой династии.
Антуан Витез ставит «Чайку» и «Цаплю» почти в одинаковых декорациях — те же стенки, те же двери и лестницы, что в доме Аркадиной, что в пансионате «Швейник», лишь задник с его попеременно меняющимся освещением — то дневной рассеянный свет пустопорожней болтовни, то клюквенные закаты туберкулезного томления, то сполохи ночной мечтательности — несколько меняется. В «Чайке» за купами деревьев подразумевается одна грань, река, из-за которой прилетает Нина Заречная; в «Цапле» грань — это польская граница, пересекаемая птицей, по-польски именуемой Чаплей — опять этот мутно-серебристый звук.
Чехов современен до такой степени, что располагает даже к некоторой непочтительности. С этой позиции как бы даже позволительна шутка, бытовавшая за кулисами: мы ставим «Чайку» молодого русского драматурга и «Цаплю» пятидесятилетнего эмигрантского зубра. Даже и в дни 120-летнего юбилея перо упорно отклоняется от академического поворота. Чехов воспринимается в качестве современника отнюдь не в хрестоматийном духе — дети, у нас тема сочинения «Чехов — наш современник» — и не в области идей — какие уж там идеи, одна душевная смута, — а всей своей личностью, неотделимой, разумеется, от творчества, но в той же степени и от его воображаемой нынче нами походки, сутуловатости, подслеповатости, хорошего пальто, пенсне и трости, от его литературной мифологии, от актрис Художественного театра, от хмельной Ялты, от обжористой Москвы. В школярские грубые годы, несмотря на усиленное изучение «жизни и творчества певца сумерек общественного сознания» или благодаря этому, образ Чехова был безразличен и далек, цинически обхохатывался в переменках, раздевалках и отливалках, воспринимался как нечто маленькое и чернявое сродни Чарли Чаплину с его утиной походочкой. Чем дальше, тем больше Чехов вытягивался, грустнел, тем яснее он обозначал появление на русской сцене нового общественного персонажа — современного писателя.
Чехов в большей степени, чем следовавший за ним Бунин, представлял новую либеральную эру, что была разрушена пошлостью революции. В «сумерках общественного сознания» мягко светились окна интеллигентских жилищ, крутые лбы присяжных поверенных, профессоров теологии и философии склонялись возле зеленых абажуров, погромыхивал первый электрический транспорт, обыватель мешкал у киоска — какого направления газету избрать, уездные барышни, жадно вдыхая сладостный дым столиц, в книжных лавках Камергерского проезда и Невского проспекта тянули ручки к свеженьким томикам — ах, Чехов! — возникала атмосфера, пригодная для существования российской либеральной беллетристики. Блаженный литературный период, начатый в 1861 году Александром Вторым Освободителем и законченный в 1917 году Лениным…
Деликатному молодому человеку нелегко закрепить за собой место в Пантеоне. Бунина с его величавостью мы запросто относим к российской классике, Чехова в глубине души мы классиком не считаем: он более соотносится с проходящим через десятилетия мифом современного писателя, нарцисса, самоеда, философского неряхи, эклектика. Наше поколение прозаиков легко соотносит его с самими собой, то есть с теми, кого вытеснил за пределы родины нахрап социалистического реализма. Мы легко соотносим его, скажем, с Юрием Трифоновым, не раз названным «Чеховым семидесятых». Тут, впрочем, стоит подумать о реальной цене подобных параллелей, о перекате времен и возможности именовать Чехова, предположим, «Трифоновым восемьсот девяностых». При всей схожести тона, мазка, наклона пера Чехов и Трифонов все-таки совсем разные писатели, хотя бы уж потому, что отец Чехова не бесчинствовал в революционных порывах и не был впоследствии убит сталинскими чекистами, и не говоря уже о том, что кончина Чехова гнездилась в легких, а Трифонова — в почках. И все-таки наш незабвенный друг Юра всегда чувствовал тесную связь с незабвенным другом Антоном Павловичем. Он назвал Чехова «катализатором» своей собственной работы. Это туманное определение, которое я почерпнул из английской «Обсервер», проведшей осенью 1980-го интервью с Трифоновым именно под рубрикой «Чехов семидесятых», все-таки немало приоткрывает. Так можно сказать и об отдаленном классике, и о соседе по этажу в ялтинском Доме творчества писателей имени А.П.Чехова.

Это повесть о молодых коллегах — врачах, ищущих свое место в жизни и находящих его, повесть о молодом поколении, о его мыслях, чувствах, любви. Их трое — три разных человека, три разных характера: резкий, мрачный, иногда напускающий на себя скептицизм Алексей Максимов, весельчак, любимец девушек, гитарист Владислав Карпов и немного смешной, порывистый, вежливый, очень прямой и искренний Александр Зеленин. И вместе с тем в них столько общего, типического: огромная энергия и жизнелюбие, влюбленность в свою профессию, в солнце, спорт.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Врач по образованию, «антисоветчик» по духу и самый яркий новатор в русской прозе XX века, Аксенов уже в самом начале своего пути наметил темы и проблемы, которые будут волновать его и в период зрелого творчества.Первые повести Аксенова положили начало так называемой «молодежной прозе» СССР. Именно тогда впервые появилось выражение «шестидесятники», которое стало обозначением целого поколения и эпохи.Проблема конформизма и лояльности режиму, готовность ради дружбы поступиться принципами и служебными перспективами – все это будет в прозе Аксенова и годы спустя.
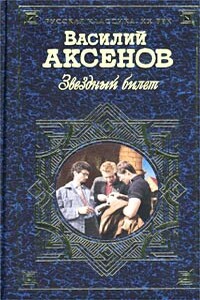
Блистательная, искрометная, ни на что не похожая, проза Василия Аксенова ворвалась в нашу жизнь шестидесятых годов (прошлого уже века!) как порыв свежего ветра. Номера «Юности», где печатались «Коллеги», «Звездный билет», «Апельсины из Марокко», зачитывались до дыр. Его молодые герои, «звездные мальчики», веселые, романтичные, пытались жить свободно, общались на своем языке, сленге, как говорили тогда, стебе, как бы мы сказали теперь. Вот тогда и создавался «фирменный» аксеновский стиль, сделавший писателя знаменитым.

В романе Василия Аксенова "Ожог" автор бесстрашно и смешно рассказывает о современниках, пугающе - о сталинских лагерях, откровенно - о любви, честно - о высокопоставленных мерзавцах, романтично - о молодости и о себе и, как всегда, пронзительно - о судьбе России. Действие романа Аксенова "Ожог" разворачивается в Москве, Ленинграде, Крыму и "столице Колымского края" Магадане, по-настоящему "обжигает" мрачной фантасмагорией реалий. "Ожог" вырвался из души Аксенова как крик, как выдох. Невероятный, немыслимо высокий градус свободы - настоящая обжигающая проза.
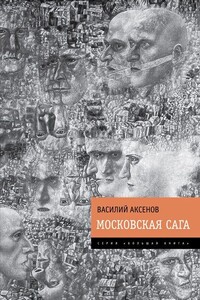
Страшные годы в истории Советского государства, с начала двадцатых до начала пятидесятых, захватив борьбу с троцкизмом и коллективизацию, лагеря и войну с фашизмом, а также послевоенные репрессии, - достоверно и пронизывающе воплотил Василий Аксенов в трилогии "Московская сага". Вместе со страной три поколения российских интеллигентов семьи Градовых проходят все круги этого ада сталинской эпохи.
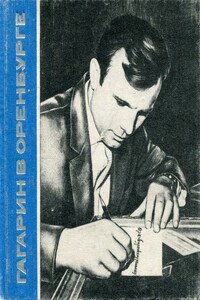
В книге рассказывается об оренбургском периоде жизни первого космонавта Земли, Героя Советского Союза Ю. А. Гагарина, о его курсантских годах, о дружеских связях с оренбуржцами и встречах в городе, «давшем ему крылья». Книга представляет интерес для широкого круга читателей.

Со времен Макиавелли образ политика в сознании общества ассоциируется с лицемерием, жестокостью и беспринципностью в борьбе за власть и ее сохранение. Пример Вацлава Гавела доказывает, что авторитетным политиком способен быть человек иного типа – интеллектуал, проповедующий нравственное сопротивление злу и «жизнь в правде». Писатель и драматург, Гавел стал лидером бескровной революции, последним президентом Чехословакии и первым независимой Чехии. Следуя формуле своего героя «Нет жизни вне истории и истории вне жизни», Иван Беляев написал биографию Гавела, каждое событие в жизни которого вплетено в культурный и политический контекст всего XX столетия.
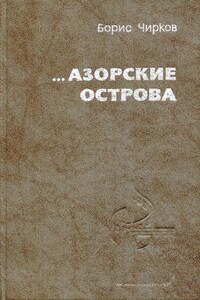
Народный артист СССР Герой Социалистического Труда Борис Петрович Чирков рассказывает о детстве в провинциальном Нолинске, о годах учебы в Ленинградском институте сценических искусств, о своем актерском становлении и совершенствовании, о многочисленных и разнообразных ролях, сыгранных на театральной сцене и в кино. Интересные главы посвящены истории создания таких фильмов, как трилогия о Максиме и «Учитель». За рассказами об актерской и общественной деятельности автора, за его размышлениями о жизни, об искусстве проступают характерные черты времени — от дореволюционных лет до наших дней. Первое издание было тепло встречено читателями и прессой.
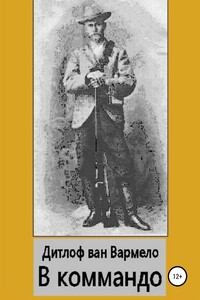
Дневник участника англо-бурской войны, показывающий ее изнанку – трудности, лишения, страдания народа.

Саладин (1138–1193) — едва ли не самый известный и почитаемый персонаж мусульманского мира, фигура культовая и легендарная. Он появился на исторической сцене в критический момент для Ближнего Востока, когда за владычество боролись мусульмане и пришлые христиане — крестоносцы из Западной Европы. Мелкий курдский военачальник, Саладин стал правителем Египта, Дамаска, Мосула, Алеппо, объединив под своей властью раздробленный до того времени исламский Ближний Восток. Он начал войну против крестоносцев, отбил у них священный город Иерусалим и с доблестью сражался с отважнейшим рыцарем Запада — английским королем Ричардом Львиное Сердце.

Автору этих воспоминаний пришлось многое пережить — ее отца, заместителя наркома пищевой промышленности, расстреляли в 1938-м, мать сослали, братья погибли на фронте… В 1978 году она встретилась с писателем Анатолием Рыбаковым. В книге рассказывается о том, как они вместе работали над его романами, как в течение 21 года издательства не решались опубликовать его «Детей Арбата», как приняли потом эту книгу во всем мире.