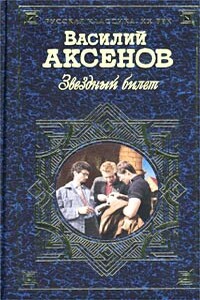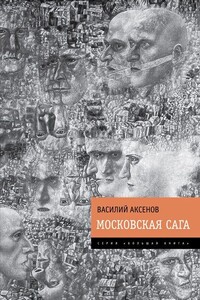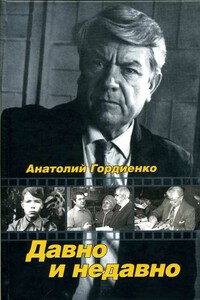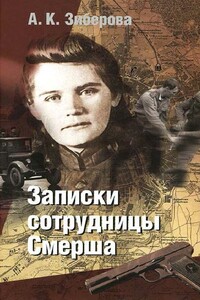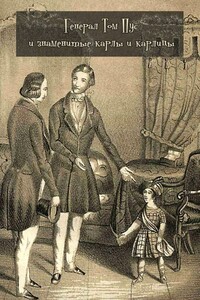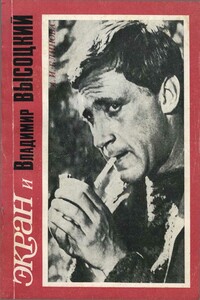До сих пор чувствую паршивую неуклюжесть той одноминутной встречи. Позор всеобщего подчинения был так густ, что мазал и одиночное противостояние. В конце «десятилетия клеветы» в Вашингтон приехала большая делегация советских писателей. На приеме в Библиотеке Конгресса несколько ее членов бросились ко мне с распростертыми. «Вася, это ты?! Дружище!» Это были вот именно дружищи, талантливые ребята, с которыми вместе прошумела литературная молодость. Еще недавно такая встреча могла только присниться, а сейчас мы обнимались и лобзались наяву. Вокруг, умиленные, стояли американские писатели. Они переглядывались: вот они, новые времена!
Вдруг послышался голос: «Дайте уж и мне пожать ему руку!» Все расступились. Передо мной с протянутой рукой стоял глава советской делегации в синем костюме с депутатским значком, с медвежьей маской лицемерия, похожий на К.Е.Ворошилова. Это был не какой-нибудь подневольный «партийный журналист», а настоящий гад крупного гадского калибра. Именно он на партсобрании в Союзе писателей требовал применения ко мне «законов военного времени».
Я забрал руки за спину. Все вокруг молчали, глядя на мерзейшую сцену. «Почему, почему? — бормотал гад, но руки своей не убирал. Она дрожала в пустоте. — Вы знаете почему», — сказал я. «Это неправда!» — вскричал он, ей-ей, с удивительной пронзительностью. Должен сказать, что и тогда, и несколько дней спустя (да и сейчас, когда пишу 15 лет спустя), я тоже чувствовал себя несладко. Какого черта, почему я должен отказывать в рукопожатии беспардонному гаду? Я никогда этого не делал ни с кем, и почему я должен это сделать сейчас и с ним? Неловкость поз была обоюдной, боюсь, что и фальшь получилась не односторонней.
Совсем недавно в Санкт-Петербурге, незадолго до смерти Виктора Конецкого, мне сказали, что он хочет встретиться со мной. Я уклонился и до сих пор не знаю, правильно ли сделал. Пусть он глумился надо мной в своей бездарной статье, и все-таки ведь это был он, Витька, кореш молодых лет, мастер рассказа (никогда не забуду его описания кораблекрушение советского судна в Индийском океане); что толкнуло его на тот пасквиль — «социальный заказ» или какой-нибудь затаившийся комплексочек?
Мы, высланное и оболганное меньшинство, полагали себя «униженными и оскорбленными», а между тем «униженными и оскорбленными» было гигантское большинство невысланных и необолганных, и вот почему прежде всего не может идти речи ни о каком сведении счетов. И все-таки мы должны писать о том времени, вспоминать умерших и ободрять живущих, «называть вещи своими именами», хотя никто не знает истинного названия вещей, пусть только для того, чтобы те, кто пришел нам на смену, не строили по нашему поводу пустых догадок.