День и час - [5]
Кто еще ходит, опустивши глаза долу? Пахари — за нескончаемой бороздой…
3
Его детство отравлено страхом: мать жила с отчимом, обходительным, даже вкрадчивым человеком в трезвости, но страшно преображавшимся с первой же каплей вина: побелевшее, помертвевшее лицо его косоротило слепой звериной яростью, он бешено — так воют и рвутся юзом пошедшие траки — скрипел мелкими крошившимися зубами и матерился запредельным, задыхавшимся от мгновенно взятой высоты, от разреженности, леденящим кровь речитативом.
Отчим, Василий Степанович Колодяжный, человек пришлый, нездешний и по происхождению — откуда-то прямо с войны, — и по своей сапожной, беспривязной профессии. И мат его тоже был нездешним. Пугающе изощренным, темным, как чужая молитва. Его ругань была изощрена не только и не столько в словах — свои, деревенские мужики «самовыражались» многоэтажнее, с сопением нагромождая друг на друга богов и боженят, кресты и прочее, и все равно их доморощенный мат никого особенно не пугал. Свои и перебрехивались-то лениво, для порядка, чтоб не забыть этот птичий (собачий) язык. Отчим же не был пустобрехом. Его ругань была изощрена в злости. Обеспечена «золотым» запасом — мгновенной всамделишной яростью. В его ругани и мата как такового не было — одна злость. Собственно говоря, и молитву молитвою делают не сами по себе «божественные» слова — у деревенских мужиков они присутствовали в полном раскладе, — а страсть. Страсть — вот что роднит мольбу и проклятье.
Ругательства отчима были темны, непонятны, но от них стыла кровь — как от выхваченного посреди заурядной бескровной, «свойской» драки финского ножа.
Для других родительский дом на всю жизнь остается самой надежной защитой. Для Сергея же он был самым уязвимым местом на земле. Солнечное сплетение. Он и сейчас ему снится таким — средоточием боли, опасности и любви. Сколько раз, отчаявшись унять, утешить, улестить мужа — такие робкие попытки вызывали новый взрыв бешенства, — мать подхватывала свой малолетний выводок и на ночь глядя пускалась огородами вон со двора.
Помните картинку: сестрица Аленушка с братцем Иванушкой бегут от грозы. Какой-то мосток, обнявшие Аленушкину шею детские ручонки, повернутая к нам, озаренная молнией простоволосая голова. Мать была старше Аленушки, да и не так хороша: доярки смолоду, «смаличку» выглядят старше своих лет. И кроме детских ручонок, пугливо обвивавших ее шею, еще две пары ладошек цеплялись за грубую диагоналевую юбку. И не гроза бушевала за ними…
Хотя почему не гроза? В хате все крушилось, трещала под топором последняя мебель, окна озарялись изнутри сполохами ослепительно лютого мата. Когда они утром, рано-рано, чтоб тоже их поменьше видели (напрасная предосторожность — в селе каждый знал, что Настю «гоняют»), подходили к хате, отчим, напевая что-то себе под нос, мирно бродил вокруг нее, вымеряя сантиметром выбитые шибки: ничей дом в селе не стеклился так часто, как Настин.
Ночевать они бегали по чужим углам. Мать даже к родственникам на ночлег не просилась, а все больше по товаркам мыкалась. Стеснялась родственников. Постучится в чужое окно: пустите, мол, люди добрые. Люди выйдут, глянут: а как не пустишь, если за матерью — еще трое. Пустят их в комнату, к столу пригласят, а мать непременно и от ужина откажется и вообще всеми силами старается занимать со своим выводком как можно меньше места. Отсутствовать. Сидит где-нибудь в темном углу, дожидаясь, пока в том же углу кинут им на всех пару фуфаек да соломы на подстилку, обхватит руками троих своих сыновей, чтоб не шебаршили (а они, чувствуя момент, и играют молча, отъединенно, автономно, не смешиваясь с хозяйской детворой), и отсутствует. Наблюдает из своей темноты за ярким кругом чужого семейного стола. Чужого счастья. Как семья, ведомая главой, покойно ужинает, как преимущественно вокруг него, главы, колготятся вечерние хозяйкины руки — много чего виделось ей из чужих углов. В том числе собственная незадавшаяся бабья доля…
Такой она Сергею и запомнилась. Аленушкой. Гонимою. Может, и впрямь по репродукции, что висела у них в простенке, — а в каком сельском доме не было в те годы этой репродукции: то она бежит, то над тем же мостиком сидит да слезу точит. Всего две ипостаси. Из другой, счастливой части Аленушкиной жизни репродукций почему-то не было. Что касается Серегиной матери, то тут счастливой части вообще не последовало. Драма завершилась в первом действии. Может, потому еще она и запомнилась ему Аленушкой, с е с т р и ц е й, что старухой он мать не увидел. Она умерла молодой. Он же у нее был старшим, так что немудрено, что она так и осталась в его памяти, в его жизни матерью-сестрицей…
Молва о «выступлениях» отчима достигла младшего Настиного брата, проживавшего в другом районе, и тот однажды нагрянул к сестре — проучить дорогого зятя. Отчим как раз, опять натворивши дел, отлеживался в кровати (слава богу, железная, сечению не поддавалась), приходил в себя. Материн брат был и моложе отчима, и мощнее. Отчим уже выходил из золотой мужской поры, уже ехал с ярмарки: его уже потихоньку гнуло и выпаривало. Так вроде еще больше закостеневший, зажелезившийся, с топором к нему не подступись, а вот на излом, да если еще через колено, да с замечательным словом, с которым не то что человека — черта своротить сподручно, так и окажется, что гнуться не гнется, а вот ломаться — ломается! Еще как ломается, ибо никакого железа, оказывается, там, внутри, и нет — так, труха. Черная, изъязвленная старыми ранениями кость.

Легендарная Хазария и современная Россия… Аналогии и аллюзии — не разделит ли Россия печальную участь Хазарского каганата? Автор уверяет, что Хазария — жива и поныне, а Итиль в русской истории сыграл не меньшую роль, чем древний Киев. В стране, находящейся, как и Хазария, на роковом перекрестье двух миров, Востока и Запада, это перекрестье присутствует в каждом. Каждый из нас несет в себе эту родовую невыбродившую двукровность.Седая экзотическая старина и изглубинная панорама сегодняшней жизни, любовь и смерть, сильные народные характеры и трагические обстоятельства, разлуки длиною в жизнь и горечь изгнаний — пожалуй, впервые в творчестве Георгия Пряхина наряду с философскими обобщениями и печальной самоиронией появляется и острый, почти детективный сюжет и фантастический подтекст самых реальных событий.

Повесть о жизни подростков в интернате в послевоенные годы, о роли в их жизни любимого учителя, о чувстве родства, дружбы, которые заменили им тепло семьи.
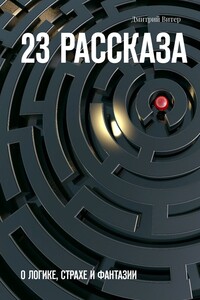
«23 рассказа» — это срез творчества Дмитрия Витера, результирующий сборник за десять лет с лучшими его рассказами. Внутри, под этой обложкой, живут люди и роботы, артисты и животные, дети и фанатики. Магия автора ведет нас в чудесные, порой опасные, иногда даже смертельно опасные, нереальные — но в то же время близкие нам миры.Откройте книгу. Попробуйте на вкус двадцать три мира Дмитрия Витера — ведь среди них есть блюда, достойные самых привередливых гурманов!

Рассказ о людях, живших в Китае во времена культурной революции, и об их детях, среди которых оказались и студенты, вышедшие в 1989 году с протестами на площадь Тяньаньмэнь. В центре повествования две молодые женщины Мари Цзян и Ай Мин. Мари уже много лет живет в Ванкувере и пытается воссоздать историю семьи. Вместе с ней читатель узнает, что выпало на долю ее отца, талантливого пианиста Цзян Кая, отца Ай Мин Воробушка и юной скрипачки Чжу Ли, и как их судьбы отразились на жизни следующего поколения.

Генерал-лейтенант Александр Александрович Боровский зачитал приказ командующего Добровольческой армии генерала от инфантерии Лавра Георгиевича Корнилова, который гласил, что прапорщик де Боде украл петуха, то есть совершил акт мародёрства, прапорщика отдать под суд, суду разобраться с данным делом и сурово наказать виновного, о выполнении — доложить.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.