Деление на ночь - [2]
Поначалу я обнаруживал в том способ закрепить всё, что удастся. Что-то вроде ежедневных отчётов: расписание сегодняшних уроков; прочитанные книги; кто, куда и с кем ходили, как сыграли в баскетбол. Покойный Бродский рассчитывал, что Бог сохраняет всё, но у четырнадцатилетнего мальчика нет ни веры Бродскому, ни надежды на Бога – приходится делать дело самому. Он старается приберечь любую мелочь, каждую монетку, чтобы в своём вознесённом над временем «потом», разложив перед внимательным внутренним зрением накопленные сокровища, колдовством воображения оживить каждого из множества тех себя и каждый тот день, в котором он бросил монетку наудачу и чтобы вернуться.
Память, перечитывая иногда свои записки, собирает меня, собирает всех меня, и с каждым годом нас приходит больше и больше на эти встречи. До какого предела может/будет множиться это число? Сейчас, мне кажется, нас становится так много, что некоторые из нас уже не узнают друг друга и, даже припомнив общее нам всем имя, смотрят с сомнением: «Откуда же я его знаю?..» Впрочем, возможно, это просто огненная вода Мартеля говорит в эту минуту моим голосом, водит моей рукой, касается подушечками пальцев клавиатуры, смайл.
Счастливые люди, полагаю, не ведут дневников. Протянутое изо дня в день описание этих самых дней всегда предполагает взгляд будущего себя-читателя; мы всякий раз вдвоём у монитора. А счастье живёт полнотой настоящего, ему дела нет до послезавтрашнего дня, тем более до послезавтрашнего года. У счастливых людей для разговора есть близкие сейчас, им нет никакой необходимости вести беседы с самим собой – через время или как угодно. В дни, когда я был счастлив, я ничего не писал в дневник (да и откуда бы я взял на это время, скажи). И от времени Веры не осталось ни одного слова, всё оно – как пробел между двумя другими словами, как лакуна – словно бы невидимо заключено в вечных своих границах между записью в день перед её приездом и записью следующего дня после того, как она уехала.
Спать, надо спать. Но иногда меня беспокоит сомнение: день, от которого не осталось записи, – был ли в нём я? Вот чего я по-настоящему боюсь, Алёша.
Вначале
Всё, всё вокруг безвидно и тщетно, и мрак над пропастью.
Только есть ли здесь кто-то? Хотя бы дух?
Тот, кто мог бы отражаться в воде?
Нет.
Темно.
Темно и гулко.
И чуть тревожно.
Из белого шума небытия проступают контуры действительности. Где я?
Идёшь в толпе, теряешься в ней, скользишь между частичками мозглого невского тумана, и тем не менее кажется, что всякий норовит заглянуть в лицо, спросить, наклонив голову влево: «Что? Как?»
А может, и наоборот: сам заглядываешь каждому проходящему в лицо, самоутешаясь, что кого-кого, а тебя-то никто не приметит, ибо кому и на кой ты сдался, только вот всё равно этот самый каждый проходящий перехватывает твой взгляд и как будто осуждающе припечатывает к стене.
А закроешь глаза – темно. Темно и гулко. И чуть тревожно.
Прислонился к надписи «Не прислоняться» и задремал на полминуты. С рёвом поезд вырвался на свободу – на следующую станцию. Кто-то коснулся плеча: выходите, мол? Сквозь сон страшно напугался. Повернулся, стал тыкать пальцем в дверь на уровне солнечного сплетения – мгновенно приобретённая привычка, во сне казалось, что ещё там и вокруг не родное метро, а тамошний трамвай, а значит, и на кнопку надо нажимать перед выходом. Но кнопка не нащупалась, а двери открылись сами. Машинально подался вперёд и стал озираться – что же за станция-то? Может, уже и выходить пора? Но нет. Вроде бы, нет. Вернулся в вагон.
А ну как это и вправду долг? Идиотская фраза. Порожняя пустота в вакууме – так Елена говорит, а если Елена говорит, то, значит, надо слушать. Либо должен, либо нет. Не взаправду нельзя быть должным. Да и вообще, к чему строить из себя героя, жертвенника? Либо да, либо нет. Сказал нет – гуляй смело, сказал что-то другое – не жужжи и разбирайся. Лёва не зря повторял, мол, в поговорке «взялся за гуж – не говори, что не дюж» скрыт огромный смысл, это, по сути, единственный пункт всеобщего кодекса чести.
Но в том-то и дело, что он ни за что не взялся. Помялся чуток, побормотал, да и свёл тему бог знает к чему, хотя первым делом хотелось заявить чуть ли не матом: батенька, да вы что, совсем, что ли, ополоумели? Но почему-то не заявил. Невнятные кивки и междометья – вот и весь итог беседы. Внешний итог. Сомнение-то этот не особо приятный старикашка посеял успешно, как выясняется. Судить надо по результату, постоянно напоминал Громов в те годы, когда они регулярно общались по разным делам. Результат всего – он, сразу после утомительного перелёта с пересадкой и сменой аэропорта в Москве, задуренный рабочими делами, терзаемый рядом предсказуемых желаний, прямиком из Пулково поехал к нему («До меня из Пулково очень близко. Я на Электросиле живу. Берите машину»), а теперь направляется, конечно, домой для удовлетворения всех этих нужд и потребностей, но думает-то о чём? О старикашке и о его предложении.
Там ощущение от толпы в общественном транспорте совсем другое. Во-первых, даже с базовым немецким почти ни черта не понимаешь, о чём они говорят. Хотя, судя по лицам и интонациям, о чём-то необременительном. А во-вторых, люди там ездят на короткие расстояния. Попутчики меняются быстро, не успеваешь к ним привыкнуть, не успеваешь почувствовать с ними противоестественное единение, не вырабатывается пресловутое чувство локтя, будь оно неладно. Не то что в Петербурге (и в Москве, конечно): если нет безумной давки и есть желание, можно придумать каждому биографию, с кем-то подружиться, кому-то врезать, а с кем-то и переспать. Давным-давно, ещё в студенчестве, он придумал смешную игру: представлял, может ли сосед по вагону метро быть его профессором. И с самых что ни на есть младых ногтей понимал, что смотреть надо на лицо и на глаза, а не на одежду. (Ныне покойный Вениамин Петрович одевался чуть ли не как бомж, и шапку зимой почему-то носил детскую, с помпончиком, но какой был взгляд!) Однако сейчас дико хотелось влиться в ту толпу, чтобы никто не смотрел и не анализировал его. Потому что нынче, кажется, его анализируют все – как нарочно.

Когда мы слышим имя Владимир Набоков, мы сразу же думаем о знаменитом писателе. Это справедливо, однако то же имя носил отец литератора, бывший личностью по-настоящему значимой, весомой и в свое время весьма известной. Именно поэтому первые двадцать лет писательства Владимир Владимирович издавался под псевдонимом Сирин – чтобы его не путали с отцом. Сведений о Набокове-старшем сохранилось немало, есть посвященные ему исследования, но все равно остается много темных пятен, неясностей, неточностей. Эти лакуны восполняет первая полная биография Владимира Дмитриевича Набокова, написанная берлинским писателем Григорием Аросевым. В живой и увлекательной книге автор отвечает на многие вопросы о самом Набокове, о его взглядах, о его семье и детях – в том числе об отношениях со старшим сыном, впоследствии прославившим фамилию на весь мир.

Археолог Вера Буковская при раскопках монастыря в Армении обнаруживает кусок льняной ткани с непонятными надписями и чертежом. Странная находка погружает «везучую Верочку» в кольцо динамично развивающихся событий, предсказать которые не может никто. Командор Тайного ордена хранителей Священного Копья и римский кардинал, магистр Мальтийского ордена и отставной полковник Котов, петербургский академик-востоковед Пиоровский и безжалостный итальянский специалист по «щекотливым делам» охвачены азартом охоты за утерянным тысячелетия назад артефактом.

Профессор археологии Парусников обнаруживает в Израиле захоронение Лилит – первой женщины, созданной Творцом вместе с Адамом еще до появления Евы. Согласно легенде, Лилит пыталась подчинить мир с помощью женских чар и за это была уничтожена. У еще не вскрытого учеными саркофага Лилит случайно оказывается Арина, бежавшая в Израиль от невзгод, которые обрушились на нее в Москве. Что произойдет с женщиной, которой достанется энергия Лилит? Не возникнет ли у нее желания подчинить мир своим прихотям? А если возникнет, то кто сможет остановить ее?
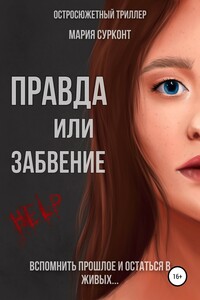
Эрна, молодая девушка, недавно попавшая в аварию, приходит в себя в больнице, рядом с незнакомым человеком, утверждающим, что он ее муж. Девушка не помнит, как оказалась в другом городе и когда успела выйти замуж. Что она делала последние два года? Муж пытается ей помочь вспомнить, однако о многом не рассказывает. А когда на пороге дома появляется полиция, Эрна узнает, что была последней, с кем разговаривала пропавшая без вести девушка, которая исчезла как раз в вечер аварии. Эрна должна восстановить события и понять, что ее связывает с пропавшей, о чем недоговаривает муж и какая истинная причина потери памяти. Перенесись в суровый Берлин и погрузись в мрачную историю Эрны Кайсер.

Журналистка Ия одержима своей работой. Она трудится в лучшем издании города и пишет разгромные статьи под псевдонимом Великан. Девушка настолько поглощена своим делом, что иногда даже слышит и видит дотошного старца Великана внутри себя. Нормально ли слышать голоса? Ие некогда думать об этом, ведь у неё столько дел: есть своя колонка в журнале, любящий парень, сложные отношения с родителями, строгий главный редактор и новая «великанская» статья каждый месяц. Так могло бы продолжаться бесконечно, если бы не человек, который каждую минуту наблюдает за Ией, знает её привычки и слабости, одновременно завидует, ненавидит и страстно желает девушку.

Первый день на работе всегда полон волнений. Амбициозный следователь Ольга Градова приступает к новому делу. И надо же такому случиться, что жертва — ее знакомый. Коллеги девушки считают, парень покончил с собой под воздействием наркотиков. Но она уверена: речь идет об убийстве. Окунувшись с головой в расследование, Ольга выходит на след бандитов. Но вопросов больше, чем ответов. Подозреваемых несколько, и у каждого есть мотив. Кто-то хочет получить выгоду от торговли наркотиками, кто-то — отомстить за давнее убийство криминального авторитета.

Как поведет себя человек в нестандартной ситуации? Простой вопрос, но ответа на него нет. Мысли и действия людей непредсказуемы, просчитать их до совершения преступления невозможно. Если не получается предотвратить, то необходимо вникнуть в уже совершенное преступление и по возможности помочь человеку в экстремальной ситуации. За сорок пять лет юридической практики у автора в памяти накопилось много историй, которыми он решил поделиться. Для широкого круга читателей.