Дата на камне - [70]
Гальченко, по словам его, особенно злило то, что немцы опиваются нашей водой. «Капли воды не дал бы им, — вспоминал он впоследствии. — Пусть бы подохли все от жажды в своей подлодке!»
Напившись и умывшись, гитлеровцы затеяли играть в чехарду и в салки. Представляете? Земля дрожала от топота их сапог. И не удивительно! Подлодка — это же плавучий стальной коридор. В нем не больно-то разгуляешься и напрыгаешься! А у Ведьминого Носа — простор, солнце, свежий, бодрящий воздух!
Ну, подлинно подгадали наши связисты к самому шабашу ведьм!
«Но что произойдет, — продолжал думать Гальченко, — если кто-нибудь из этих беспечно орущих и хохочущих молодых парней, расскакавшись, приблизится еще метров на десять, заглянет невзначай по эту сторону высокого мыса и увидит нас и нашу шлюпку? Что тогда?»
Об этом, конечно, думал и Тюрин.
Он толкнул Гальченко в бок:
— Гранаты!
А сам, не оглядываясь, подтянул под правый локоть винтовку.
Гранаты лежали в шлюпке. Гальченко быстро сползал за ними и снова улегся рядом с Тюриным.
Его трясло от нетерпения. Живыми все равно отсюда не уйти. Скорей бы тогда бой! Он представлял себе, как раскрасневшаяся харя появляется над кочками. Смотрит на советских связистов, продолжая улыбаться по инерции. И вдруг беззаботной, глупой улыбки как не бывало! Секунда замешательства, и…
Воспользоваться этой секундой! Подняться во весь рост и забросать всю веселую бражку по ту сторону мыса гранатами, прежде чем гитлеровец успеет крикнуть, предупредить своих камрадов!
Не было бы старшого — Тюрина, — наверное, Гальченко так бы и сделал. Глупо, конечно! Ну, разорвал бы в клочья нескольких гитлеровцев и сам бы погиб под пулями, а дальше что? Подлодка благополучно ушла бы в море, и о ней на посту ничего бы не узнали.
Старшой беспокоился о том же, о чем и Гальченко. Опять толкнул его в бок.
— Слышь-ка, — зашептал он над ухом, — а ведь бодяга эта надолго!
— Какая бодяга?
— Заряжаться будут долго. Часа два-три, если не больше, протыркаются с этим.
— Ну и что?
— А то, что мотай-ка живым духом на пост! Доложишь мичману про лодку.
— Как же я оставлю вас, товарищ Тюрин? Умрем, так вместе!
— Вишь ты: умрем! Кому это нужно, что мы оба умрем? Первую заповедь связиста забыл? «Что увидел, сразу о том докладывай!» Зачем немцы, по-твоему, у Ведьмина Носа околачиваются? Может, караван наш подстерегают?
— А вдруг они сунутся сюда?
— А вдруг да и не сунутся? Ишь как распрыгались! И грязи много на мысу. Они же чистоплотные. Не захотят грязь на сапогах в свою подлодку тащить. Ну, а уж если сунутся, так я же не один. Гранаты и винтовка при мне! В случае чего, я прикрою тебя огнем.
Гальченко все еще колебался.
— Иди, иди! — грозным шепотом повторил Тюрин. — Я тебе приказываю!
Гальченко, распластавшись, как черепаха, пополз в сторону.
По его словам, невыносимо раздражали хлюпанье и причмокивание оползающего мокрого песка, пугающе громкие — так казалось Гальченко. Но он надеялся, что предательские звуки эти заглушит равномерный гул прибоя.
Наконец он выбрался на моховую подстилку, которая бесшумно и мягко пружинила под ним.
Пришлось сделать довольно большой крюк, чтобы, прячась в разлогах и за кочками, отдалиться на достаточное расстояние от гитлеровцев, резвившихся на берегу, как школьники.
Впрочем, они так поглощены были своими играми, что даже не оглядывались на привычно безлюдную тундру. А вахтенный сигнальщик на подлодке, вероятно, смотрел только в сторону моря, хотя ему положено вести круговой обзор.
Наконец, километрах в двух от берега, Гальченко поднялся и побежал.
Как я понимаю, это был почти марафон.
Прямиком по тундре намного ближе до поста, чем морем вдоль извилистого берега, и все же, думаю, насчитывалось километров двенадцать, не меньше.
Гальченко пробежал их одним духом, не останавливаясь. Причем, заметьте, бежал не по ровной дорожке, а по сырой кочковатой тундре.
Моховой покров достигает там, насколько я помню, толщины трех метров — запросто выдерживает летом тяжесть собачьей упряжки и саней с седоком. Однако в тундре много болотистых участков, где мох ненадежен.
Гальченко обегал их, так же как и высокие торфяные кочки, встававшие, как надолбы, на его пути.
Он перепрыгивал с разбега лужи, спотыкался, оскальзывался. Яловые сапоги не были приспособлены для такого бега. Вдобавок на них сразу же налипли комья раскисшей глины. Тогда Гальченко скинул сапоги, забросил их за спину и побежал налегке — босиком. Нет, не ощущал, по его словам, стужи, которая исходила от промороженной насквозь земли. Наоборот! Влажный мох приятно охлаждал разгоряченные ступни.
Посмотрела бы на него мать! Причитая, кинулась бы, наверное, готовить растирания-притирания и горячую ножную ванну с горчицей.
Споткнувшись о кочку, Гальченко упал. И снова запах тундры ударил ему в лицо.
Тут только — лежа — почувствовал он, что силы его на исходе. Чего бы на свете не отдал, лишь бы продолжать лежать так, не шевелясь, час, другой, чувствуя, как силы мало-помалу возвращаются к нему…
Но он переборол себя, вскочил и побежал. Ветер подталкивал его в спину. Когда они шли с Тюриным на веслах к Ведьминому Носу, ветер дул навстречу, тормозя движение. Сейчас он, спасибо ему, был с Гальченко заодно. Он торопил, подгонял, настойчиво свистел в уши: «Скорей, скорей!»

В романе «Секретный фарватер» рассказывается о мужестве и героизме моряков-балтийцев в годы Великой Отечественной войны, о разгадке ими тайны немецкой подводной лодки «Летучий Голландец».

Повесть о советской этнографической экспедиции, которая обнаруживает в горах Бырранга на Таймырском полуострове затерявшееся племя самоедов-нганасанов и спасает их от вымирания.

Сборник приключенческих повестей и рассказов.СОДЕРЖАНИЕПОВЕСТИПетр Шамшур. ТрибунальцыВсеволод Привальский. Браунинг №…Игорь Болгарин, Виктор Смирнов. Обратной дороги нетАркадий Вайнер, Георгий Вайнер. Ощупью в полденьРАССКАЗЫЮрий Авдеенко. Явка недействительнаСевер Гансовский. Двадцать минутЛеонид Платов. МгновениеВладимир Понизовский. В ту ночь под Толедо.
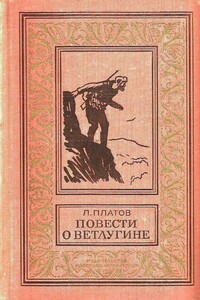
В своей повести «Архипелаг Исчезающих Островов» Л. Платов использовал богатейший географический материал. Замысел повести правдив. В Арктике существуют острова, сложенные из осадочных пород и ископаемого льда. Они постепенно разрушаются. В море Лаптевых исчезли таким образом острова Васильевский и Семеновский. Такие острова и описаны в повести Л.Платова.В повести «Страна Семи Трав» рассказывается о советской этнографической экспедиции, которая обнаруживает в горах Бырранга на Таймырском полуострове затерявшееся племя самоедов-нганасанов и спасает их от вымирания.
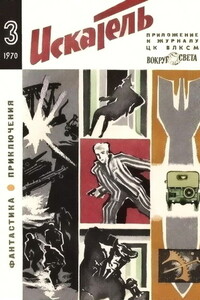
На 1-й странице обложки — рисунок А. ГУСЕВА.На 2-й странице обложки — рисунок Н. ГРИШИНА к очерку Ю. Платонова «Бомба».На 3-й странице обложки — рисунок Л. КАТАЕВА к рассказу Л. Успенского «Плавание «Зеты».
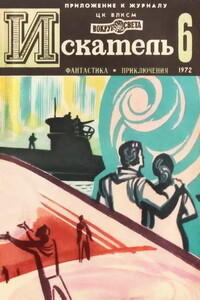
На 1-й и 4-й стр. обложки — рисунок Н. ГРИШИНА.На 2-й стр. обложки — рисунок А. БАБАНОВСКОГО к повести Л. ПЛАТОВА «Бухта Потаенная».На 3-й стр. обложки — рисунок Н. ГРИШИНА к рассказу М. ЛЕЙНСТЕРА «Одинокая планета».
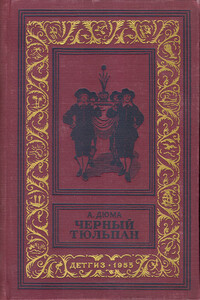
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Фантастико-приключенческий роман «Третий глаз Шивы» посвящен работе советских криминалистов, которые на основе последних достижений современной науки прослеживают и разгадывают удивительную историю знаменитого индийского бриллианта, расшифровывают некогда таинственные свойства этого камня, получившего название «Третий глаз Шивы».

Роман «Фаэты» повествует о гибели пятой планеты солнечной системы из-за ядерного взрыва океанов, о судьбе уцелевших героев и их потомков.

«Полдень, XXII век». Центральное произведение знаменитого цикла братьев Стругацких о мире будущего. Шедевр отечественной (и мировой) утопической фантастики, выдержавший проверку временем — и сейчас читающийся с таким же удовольствием, как и десятилетия назад. Роман, который сами авторы называли книгой о «Светлом, Чистом, Интересном мире».