Цыганский роман - [9]
Нам всем нравились сильные личности и необыкновенные приключения, но мало кто из нас решался идти на дерзкие поступки, которые выдвигали в вожаки вернее, чем отличная учеба и примерное поведение. Мой соученик по школе, Иосиф Розенбаум, переросток по кличке Йоц, который сидел в каждом классе по два года, почему-то пользовался среди ребят самым большим авторитетом. Когда кто-нибудь из учителей ставил Йоцу его постоянную законную двойку, Розенбаум не спеша подходил к учительскому столу, брал классный журнал и выбрасывал его за окно. Педагог выходил из себя, благородно негодовал, но не хотел «затеваться» с этим бандитом Розенбаумом и обещал Йоцу исправить двойку. Тогда торжествующий двоечник доставал журнал из-за окна, не выходя на улицу. Оказывается, он выбрасывал журнал лишь понарошке, а на самом деле аккуратно укладывал классный кондуит на кирпичный выступ стены за окном. Мне тоже хотелось быть таким ловким и смелым, как Йоц, но у меня это не получалось, так же как у большинства наших ребят. И потому Розенбаум был у нас признанным вожаком и пользовался авторитетом не только у школьников, но и у педагогов. Он доставал на уроке буханку хлеба и принимался есть ее, как будто находился не в классе, а в столовой. Учителя делали вид, что они не замечают его нахальства. Когда Йоц предлагал «кец мандра» — то есть кусок хлеба — мне, я неизменно отказывался, знал, что мне педагоги не спустят нарушения дисциплины. Йоц же пользовался своей привилегией делать в классе все, что ему заблагорассудится, как французский дворянин правом не снимать шляпу в присутствии короля. Я завидовал Йоцу и много размышлял над тем, как люди зарабатывают авторитет, добиваются особого положения. Меня очень интересовал этот вопрос, так сказать, механизм выдвижения личности. В книгах это было ясно, в жизни все оказывалось много сложней. Хотелось разобраться самому. Я наблюдал, замечал, делал свои наивные выводы, которые жизнь неумолимо опрокидывала впоследствии, но упрямо продолжал наблюдать.
Например, я заметил, что в нашем городе очень гордятся своим особым языком, тем, что говорят не по-русски, не по-украински, а «как у нас». Только у нас! Это как бы выделяло жителей нашего города среди прочих людей. Смешно сказать, но я сам долгие годы упрямо отстаивал свое право говорить «как у нас». Наш жаргон назывался суржиком. У маляров на Украине есть такое понятие «суржик»: смесь красок. Наш язык был смесью разных языков.
В то утро я шел по городу, всматривался в знакомые черты и думал о чем-то, что совсем не касалось «текущего момента». Странно, но и другие ребята тоже, по-моему, не вполне еще почувствовали наступления особого времени по имени война. Относились к ней, как когда-то к блатной романтике (не случайно я о ней вспомнил на притихших, замерших улицах), — как к увлекательной, опасной, но все-таки игре. Шагали бодро. Бежали, обгоняя друг друга, а я думал о людях, которые сейчас либо покинули свои дома, либо спрятались в них. Как они жили. Как разговаривали. Ведь был же какой-то смысл в том, что мы смешивали разные языки? Как сам город, в котором шестиэтажный гигант эпохи первых пятилеток соседствовал с глинобитной мазанкой, наш язык состоял из множества элементов, принадлежащих к разным языкам. В нем звучала и напевная украинская речь, и русский говорок, и еврейские интонации, и гортанные звуки восточных людей: армян, греков и даже айсоров. Армян в городе было много, существовала целая армянская улица. Айсоры, потомки древних ассиро-вавилонян, своей улицы не имели, зато их можно было встретить на всех улицах, углах, перекрестках. Они занимались исключительно чисткой обуви.
Рассказывали, будто в девятьсот шестнадцатом году, когда русское правительство разрешило армянам и айсорам укрыться от турецкой резни, они, айсоры, избрали для жительства, в частности, и наш город. У армян было к кому прибиться — они ехали в Ереван к своим. Айсоры тоже были православными, но рассеялись где придется. Здесь они сталкивались с коренным населением, и чем бы ни занимались бедные беженцы, они обязательно становились кому-то поперек дороги. Тогда старейшины племени древних вавилонян решили, что они будут чистить обувь. Чистильщиков в России тогда еще не было, никто не занимал этих мест, да и впоследствии не зарился, видимо, на них, так что айсоры и в мое время оставались владельцами почти всех будочек для чистки обуви. Совет старейшин принял мудрое решение: пусть нас презирают, но не завидуют. И это стало пусть сомнительной, но все-таки исключительной национальной прерогативой айсоров.
Привилегии! Когда в то утро я со своими товарищами по школе уходил из города, на углах не было ни одного айсора-чистильщика, словно они никогда и не приходили из своей экзотической страны. И будто никогда не было у нас ни национальных привилегий, ни национальной розни. Все это казалось нам, ребятам предвоенных лет, таким же древним, как мифическая Ассиро-Вавилония. Мы знали о национализме, резне и погромах только из книг, анекдотов, баек. По-украински басня — байка. Но в просторечии байкой называлась не басня с животными, как в литературе, а россказни. Или, по-еврейски, — майсе. От выражения «бобе майсе», что, как мы полагали, означало — «бабушкины сказки», бабушкины россказни. И наверное, в то утро, когда мы покидали город, мой друг Колька Мащенко мог рассказать какую-нибудь очередную майсу. Колька каждый день притаскивал в класс байку или анекдот. Он рассказывал, виртуозно владея нашим жаргоном, какую-нибудь старую, затасканную историю.

Однажды окружающий мир начинает рушиться. Незнакомые места и странные персонажи вытесняют привычную реальность. Страх поглощает и очень хочется вернуться к привычной жизни. Но есть ли куда возвращаться?

Проснувшись рано утром Том Андерс осознал, что его жизнь – это всего-лишь иллюзия. Вокруг пустые, незнакомые лица, а грань между сном и реальностью окончательно размыта. Он пытается вспомнить самого себя, старается найти дорогу домой, но все сильнее проваливается в пучину безысходности и абсурда.
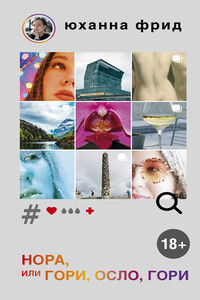
Когда твой парень общается со своей бывшей, интеллектуальной красоткой, звездой Инстаграма и тонкой столичной штучкой, – как здесь не ревновать? Вот Юханна и ревнует. Не спит ночами, просматривает фотографии Норы, закатывает Эмилю громкие скандалы. И отравляет, отравляет себя и свои отношения. Да и все вокруг тоже. «Гори, Осло, гори» – автобиографический роман молодой шведской писательницы о любовном треугольнике между тремя людьми и тремя скандинавскими столицами: Юханной из Стокгольма, Эмилем из Копенгагена и Норой из Осло.

Книга посвящается 60-летию вооруженного народного восстания в Болгарии в сентябре 1923 года. В произведениях известного болгарского писателя повествуется о видных деятелях мирового коммунистического движения Георгии Димитрове и Василе Коларове, командирах повстанческих отрядов Георгии Дамянове и Христо Михайлове, о героях-повстанцах, представителях различных слоев болгарского народа, объединившихся в борьбе против монархического гнета, за установление народной власти. Автор раскрывает богатые боевые и революционные традиции болгарского народа, показывает преемственность поколений болгарских революционеров. Книга представит интерес для широкого круга читателей.

Французская романистка Карин Тюиль, выпустившая более десяти успешных книг, стала по-настоящему знаменитой с выходом в 2019 году романа «Дела человеческие», в центре которого громкий судебный процесс об изнасиловании и «серой зоне» согласия. На наших глазах расстается блестящая парижская пара – популярный телеведущий, любимец публики Жан Фарель и его жена Клер, известная журналистка, отстаивающая права женщин. Надлом происходит и в другой семье: лицейский преподаватель Адам Визман теряет голову от любви к Клер, отвечающей ему взаимностью.
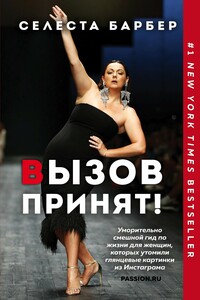
Селеста Барбер – актриса и комик из Австралии. Несколько лет назад она начала публиковать в своем инстаграм-аккаунте пародии на инста-див и фешен-съемки, где девушки с идеальными телами сидят в претенциозных позах, артистично изгибаются или непринужденно пьют утренний смузи в одном белье. Нужно сказать, что Селеста родила двоих детей и размер ее одежды совсем не S. За восемнадцать месяцев количество ее подписчиков выросло до 3 миллионов. Она стала живым воплощением той женской части инстаграма, что наблюдает за глянцевыми картинками со смесью скепсиса, зависти и восхищения, – то есть большинства женщин, у которых слишком много забот, чтобы с непринужденным видом жевать лист органического салата или медитировать на морском побережье с укладкой и макияжем.