Цыганский роман - [5]
В дни эвакуации, когда мама со своей подружкой, бухгалтершей райздрава, заявились к Дворянинову, он их не принял. Сослался на уйму работы: не отходит, мол, от операционного стола. Работы у профессора действительно было сверх головы; больница превратилась в госпиталь, и раненых везли постоянно. Он оперировал сам, вмешивался в дела военных врачей и конечно же не хотел ни с кем считаться. Это вызывало конфликты, время было военное, но Дворянинов как бы и не замечал этого. Его словно бы ничего не касалось, кроме работы. Другие профессора уже сложили вещички, и многие эвакуировались: их вывозил мединститут, где они заведовали кафедрами и факультетами, получали новые назначения, а Дворянинов, кажется, и не был настоящим профессором — какой же это профессор, если не преподает? Дворянинов не работал в институте, так как поссорился с руководством, плевал на всякую дисциплину и учил по-своему, в основном на практике. Профессором он считался у больных, которые этим словом определяли его значимость.
Словом, когда две бухгалтерши отправились к Дворянинову, уже ползли слухи, что профессор уезжать не собирается. Злые языки утверждали, что ему и не нужно ехать. Ведь он не член партии, не еврей, как Фридман, Гриншпун и Аранович-младший. Он и при немцах найдет себе достаточно работы. Со своим «имением» — подсобным хозяйством, с огородами, которые, как рассказывали, обрабатывали служащие больницы, он не пропадет.
Женщины повздыхали, поняли, что им нужно беспокоиться о себе самим, и стали искать организации, за которые можно было бы зацепиться. Под их началом был санаторий-интернат для туберкулезных больных, другие санатории и профилактории со своими приусадебными участками. Стали собирать овощи, солить, мариновать, копить консервы, сушить сухари, припрятывать мешки с мукой и сахаром. Мама звонила, писала, связывалась. Появился какой-то мордатый дядька, хватал наряды на получение продуктов, прятал их в огромный портфель и исчезал. Дядька этот, как говорили, был из бывших белых офицеров, после революции руководящего себе места не нашел и обрадовался, когда хоть кому-то понадобился его опыт руководителя. Брошенные начальством — своим постоянным советчиком Дворяниновым, бухгалтерши ухватились за дядьку, тем более что тот «в бутылку не лез», все замечания принимал «к сведению и руководству» и изо всех сил старался выслужиться. Что же касается происхождения, то мой дед тоже считался человеком «из бывших». Призванный в царскую армию во время русско-японской войны, он отличился под Цусимой, стал полным георгиевским кавалером и даже получил, как тогда называлось, личное дворянство. Смешно сказать: Степан Пилипченко — личный дворянин! У него до тех пор не то что имений, но даже фамилии своей не было. Пилипченко, как рассказывали, не фамилия, а деревенская кличка. И происходила она не от украинского имени Пилип, что соответствует русскому Филипп, а оттого, что у деда дома своего не было: он прилип, прилепился к хутору, где жила мамина мама, и с тех пор стал Прилипченко. Буква «р» с годами потерялась, без нее фамилия выглядела привычнее, а деду, который и без того страдал от своего личного дворянства и славного прошлого, только и нужно было, чтобы не привлекать ничьего внимания. Зато личное дворянство деда очень помогло его детям: они на этом основании получили среднее образование, а мамин брат даже окончил кадетский корпус. Кадетские погоны со временем сменились командирскими петлицами, дядя был современным парнем, а вот деду с его прошлым пришлось пострадать. Дворянин! Какой ни есть, а дворянин! И перебивался дед со своим титулом то в завхозах то в управдомах.
Мама симпатизировала мордатому дядьке и вела с ним дела, потому что так понимала их: она финансирует, а он бегает, достает, хлопочет. Сама мать на такое руководство не была способна, она, может быть, потому и ругала куркуля-профессора, что не могла представить себя на его месте; она не стремилась стать во главе дела, предпочитала, чтобы кто-нибудь за нее отвечал. До последней минуты она втайне надеялась, что все будет как в кино: профессор опомнится, призовет ее с подружкой-бухгалтершей к себе, и тут выяснится, что мордатый дядька тайно подослан Дворяниновым, все к эвакуации готово, а свой «мае́ток» — полукаменный дом на окраине — профессор или взрывает, или топит в водах мелкой нашей речушки. В ожидании благополучного разрешения сложной и неожиданной ситуации она продолжала с неослабевающей энергией делать свое маленькое дело.
Мама умудрилась получить из банка двадцать пять тысяч и искала, кому их раздать или передать. Никто не приходил в районо, люди все поняли и сами решали свои судьбы. Но на мою маму не действовали ни бомбежки, ни панические слухи, ни все увеличивающийся поток эвакуирующихся, который теперь тек мимо ее окон. В окнах первого этажа, где помещалась бухгалтерия, стекла были замазаны кругами белой краски, похожими на вихри: Вот эти вихри и отделяли маму от настоящей бури, которая кружила на улицах. По стеклам, перекрещенным лентами из газетной бумаги, вскоре после начала войны побежали мелкие трещины, словно все окна превратились в карты путей, по которым нам предстояло пройти. Когда и абажур настольной лампы — зеленый сверху и матовый изнутри — лопнул, мама перенесла домой наиболее важные документы, которые должны были находиться под рукой. Раньше — на службе, теперь — дома. Почему они должны были быть «под рукой» в этой странно меняющейся жизни, мама не думала, она делала все, как раньше, выполняла, что ей полагалось делать, пока этот порядок не отменен. А никто ничего не отменял. Некоторые, не дожидаясь приказаний, приспосабливались к тому, что происходило. Это могли не все. Привыкшие к коллективу, люди не теряли надежду на его высшую мудрость. А она, мудрость, на этот раз и заключалась в том, чтобы каждый действовал по обстановке. Наконец мама достала посадочные талоны, но с отъездом тянула — все искала людей, которым можно было отдать казенные деньги. В ожидании этого она впрок чертила ведомости и ждала указаний. Не могла она самовольно покинуть свой пост! Пост находился теперь дома. На обеденном столе сдвинули вазочки и солонки — мамина работа была в доме святыней, — и она принялась за прежние дела: искала, кому передать деньги. Правда, у нас не было телефона в комнате, нужно было бегать в коридор и пользоваться висячим громоздким аппаратом, но маме уже почти никто не звонил. Да и ей самой звонить было некуда. Зато наша комната с «фонарем» в потолке ей очень подошла. Днем не приходилось жечь свет, хотя мама плохо видела: сквозь рамы «фонаря» он шел прямо к маме на стол, на бумаги. Такие «фонари» были не редкостью в старых домах, которыми когда-то тесно застроили центр.

Проснувшись рано утром Том Андерс осознал, что его жизнь – это всего-лишь иллюзия. Вокруг пустые, незнакомые лица, а грань между сном и реальностью окончательно размыта. Он пытается вспомнить самого себя, старается найти дорогу домой, но все сильнее проваливается в пучину безысходности и абсурда.
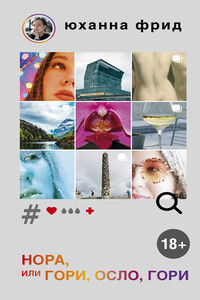
Когда твой парень общается со своей бывшей, интеллектуальной красоткой, звездой Инстаграма и тонкой столичной штучкой, – как здесь не ревновать? Вот Юханна и ревнует. Не спит ночами, просматривает фотографии Норы, закатывает Эмилю громкие скандалы. И отравляет, отравляет себя и свои отношения. Да и все вокруг тоже. «Гори, Осло, гори» – автобиографический роман молодой шведской писательницы о любовном треугольнике между тремя людьми и тремя скандинавскими столицами: Юханной из Стокгольма, Эмилем из Копенгагена и Норой из Осло.

Книга посвящается 60-летию вооруженного народного восстания в Болгарии в сентябре 1923 года. В произведениях известного болгарского писателя повествуется о видных деятелях мирового коммунистического движения Георгии Димитрове и Василе Коларове, командирах повстанческих отрядов Георгии Дамянове и Христо Михайлове, о героях-повстанцах, представителях различных слоев болгарского народа, объединившихся в борьбе против монархического гнета, за установление народной власти. Автор раскрывает богатые боевые и революционные традиции болгарского народа, показывает преемственность поколений болгарских революционеров. Книга представит интерес для широкого круга читателей.

Французская романистка Карин Тюиль, выпустившая более десяти успешных книг, стала по-настоящему знаменитой с выходом в 2019 году романа «Дела человеческие», в центре которого громкий судебный процесс об изнасиловании и «серой зоне» согласия. На наших глазах расстается блестящая парижская пара – популярный телеведущий, любимец публики Жан Фарель и его жена Клер, известная журналистка, отстаивающая права женщин. Надлом происходит и в другой семье: лицейский преподаватель Адам Визман теряет голову от любви к Клер, отвечающей ему взаимностью.
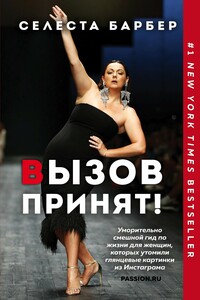
Селеста Барбер – актриса и комик из Австралии. Несколько лет назад она начала публиковать в своем инстаграм-аккаунте пародии на инста-див и фешен-съемки, где девушки с идеальными телами сидят в претенциозных позах, артистично изгибаются или непринужденно пьют утренний смузи в одном белье. Нужно сказать, что Селеста родила двоих детей и размер ее одежды совсем не S. За восемнадцать месяцев количество ее подписчиков выросло до 3 миллионов. Она стала живым воплощением той женской части инстаграма, что наблюдает за глянцевыми картинками со смесью скепсиса, зависти и восхищения, – то есть большинства женщин, у которых слишком много забот, чтобы с непринужденным видом жевать лист органического салата или медитировать на морском побережье с укладкой и макияжем.
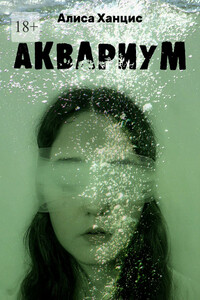
Апрель девяносто первого. После смерти родителей студент консерватории Тео становится опекуном своего младшего брата и сестры. Спустя десять лет все трое по-прежнему тесно привязаны друг к другу сложными и порой мучительными узами. Когда один из них испытывает творческий кризис, остальные пытаются ему помочь. Невинная детская игра, перенесенная в плоскость взрослых тем, грозит обернуться трагедией, но брат и сестра готовы на всё, чтобы вернуть близкому человеку вдохновение.