Цицерон - [7]
Противоречие между частным интересом, государственным делом и его моральной санкцией в Риме вообще и в жизни Цицерона в частности во многом объясняется этой двойной соотнесенностью и двойной ответственностью каждого гражданина. То, что нам представляется аморальным своекорыстием и изменой принципам, на самом деле было всего лишь верностью «второй морали», которая, естественно, не могла быть универсальной: то, что устраивало одних, вызывало критику других. Возвращением из изгнания Цицерон был больше всего обязан Помпею. Это создавало между ними определенные отношения, которые в Риме назывались «дружбой» и порождали обязательства, столь же непреложные, сколь обязательства перед законом. Отсюда упоминавшиеся уже речи в защиту Габиния или Ватиния, произнесенные по настоянию Помпея. Того же происхождения многие другие речи и поступки Цицерона. В классическую пору римского государства обе системы обязательств как-то уживались одна с другой (хотя всегда порождали конфликты, недоразумения, взаимные обвинения). В кризисные, предсмертные годы республики конфликт между ними существенно обострился. Обращая внимания на эту сторону дела и раскрывая ее, П. Грималь полностью прав: так называемый аморализм Цицерона рос из общественных условий, из органической, естественной двойственности римских нравственных норм и ценностей, и характеризовал скорее их, чем его.
Так на чем же все-таки основано значение Цицерона для многовековой европейской культуры, для наших дней? Исчерпывается ли его роль сменой «положительного» и «отрицательного» его образов? И если оба они имеют объективное основание в истории, то откуда же взяться еще одному, третьему — тому, что заключает в себе свою особую разгадку «проблемы Цицерона»? И есть ли вообще разгадка?
Центральная проблема античной культуры, античной истории и всей жизни древних Греции и Рима — соотношение идеальной нормы гражданского общежития с реальной общественной практикой. «Я знаю, какое государство основали наши предки, — говорил в римском сенате один из весьма влиятельных его членов, — ив каком государстве живем мы. Древностью должно восхищаться, но сообразовываться приходится с нынешними условиями». Сенатор выразил жизненную коллизию, с которой повседневно сталкивался каждый римлянин. Суть античного миропорядка, однако, состояла в том что в его пределах «древность» и «нынешние условия» не только друг другу противостояли, но и друг друга опосредовали, дополняли, друг в друге жили. Основу этой диалектики составлял, как отмечалось, общинные уклад, который с неизбежностью предполагал, с одной стороны, сохранение старинных институтов и ценностей общины и их идеализацию, а с другой — постоянное их разрушение поступательным развитием жизни. По мере углубления кризиса общины противоречие между обоими полюсами обострялось, соединение политической, хозяйственной и любой иной практики с «древностью, которой должно восхищаться» становилось все иллюзорнее, и люди вели себя все менее последовательно, все более лицемерно. В книге П. Грималя читателю предстоит познакомиться со многими из них, и Цицерон, пока он старался жить «как люди», мало чем от них отличался. Скорбел в письмах об унизительной непоследовательности своего поведения — и снова возвращался к конформизму, хитрости и интригам. Но в годы, на которые приходились его деятельность и его творчество, община Рима продолжала существовать — ив своих экономических основах, и в своих политических формах, и в своей идеологии. Кризис — это тоже форма жизни. И пока общинный уклад был жив, он регенерировал заложенные в нем ценности и нормы, возвращал их в реальность, сплетал с противоречившей им практикой, создавая тот тип истории и культуры, который мы вслед за Гегелем называем классическим. Если употреблять это последнее слово не как оценку, а как термин, то оно и означает тип истории, культуры, искусства, при котором противостоящие полюса общественных противоречий остаются в состоянии неустойчивого, динамичного, но длящегося равновесия, а идеал и жизнь неслиянны, но и нераздельны. Зайдите в музей, взгляните на статуи атлетов, изваянные Поликлетом, перечитайте «Энеиду» Вергилия или в «Истории» Фукидида речь Перикла над павшими афинскими воинами, и вы удостоверитесь в классическом характере античной культуры.
В Риме этот тип исторического развития имел реальные жизненные основания, еще сохранявшиеся в эпоху Цицерона. Ограничимся в доказательство одним примером.
Идеальной нормой римского общежития была непритязательность быта, суровая и честная бедность, уравнивавшая членов общины. В государстве, накопившем несметные сокровища, где богачи владели тысячами гектаров, по сути дела, краденой земли и устраивали пиры, на которые свозились диковинные яства со всей земли, эта норма была явной бессмыслицей, а попытки миллионера Цицерона эту норму прославить и утвердить — смесью наивности и лицемерия. Но с того момента, как богатства со всего Средиземноморья обрушились па Рим, сенат упорно принимал законы против роскоши — в 215, 182, 161, 143, 131, 115, 55 годах и еще несколько раз впоследствии. Их повторяемость показывает, что они не исполнялись, но ведь что-то заставляло их систематически принимать. Моралисты, историки, школьные учителя пели хвалу героям древней республики за их бедность, их хижины, их деревянную посуду, земельные наделы в семь югеров (1,7 га). Это выглядело не более чем олеографией. Но, как ныне подсчитано, при выводе колоний размер предоставляемых участков был ориентирован примерно на те же семь югеров, а огромные имения, если земля в них не обрабатывалась, могли быть по закону конфискованы — закон этот не применялся, но его упорно не отменяли. Сенека в I веке н. э. прославлял честную бедность и восхвалял за нее Сципиона, который, удалившись в добровольное изгнание, мылся в темной крохотной баньке, им собственноручно сложенной из камней, — звучало это как назидательная выдумка, но ведь Сенека эту баньку видел своими глазами. Противоестественное богатство Верреса фигурирует и обвинительных речах Цицерона как одна из презумпций обвинения, но речи были рассчитаны на очень широкую аудиторию — по-видимому, и в ее глазах такое богатство, независимо от его происхождения, могло быть предосудительно.
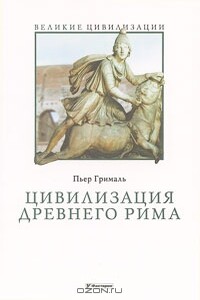
Был ли Рим «оригинальным»? Была ли римская цивилизация прямой наследницей Великой Греции? Почему римляне обожествляли свой город, но предоставляли возможность проживать в нем бывшим врагам? Почему варварские племена почитали Рим и разделяли с римлянами любовь к нему? Почему Рим отказался от монархии и тирании и стал империей? И что же такое на самом деле империя? И почему римляне считали, что настоящая духовная и религиозная среда для человека — сельская местность?Римская империя рухнула. Но сама идея Рима продолжала существовать как бодрящий миф об общечеловеческой родине, история которой показала, что она не была невозможной мечтой.Книга предназначена для широкого круга читателей.
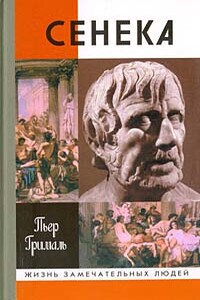
Жизнь и творчество древнеримского философа Сенеки стали неотъемлемой частью культуры современной цивилизации. Философ-моралист, последователь учения Древней Стои, этот человек, всю жизнь стремившийся к нравственному совершенству, воплощал собой самые острые противоречия своего времени.Книга написана крупнейшим французским античником Пьером Грималем, перу которого принадлежит несколько десятков трудов по истории Рима.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге приведен библиографический список наиболее важных работ о жизни и творчестве Лермонтова. Он поможет ориентироваться в обширной литературе предмета, облегчит нахождение необходимых справок и будет способствовать дальнейшему углубленному изучению наследия писателя. Он должен также дать представление о направлениях в науке о Лермонтове и о деятельности отдельных ученых-лермонтоведов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.