Чувствительное обоняние - [4]
— Будешь писать портрет нашей соседки? Она просила. Мне ты никогда не предлагал.
— Этой старой совы, — сказал он. — Ты же говорила, что тебе противно, когда тебя рисуют.
— Ты меня никогда не просил, — сказала она. — Нарисуй меня — не лицо, а меня.
— Как настоящие художники, — сказала она. — Без одежды.
— Тебе можно, — сказала она, горя нетерпением.
— Вот, — сказала она, сняв с себя одежду и устроившись на стуле. — Не думай, что это предлог. Скоро вернутся дети.
Он чувствовал себя робко и неуверенно.
— Художник никогда так не думает, — сказал он. — Руку назад. Он думает о композиции. Он думает о красоте.
— Ты меня не любишь, — сказала она. — Не так, как тогда, в магазине. Ты хотел меня тогда нарисовать. Сейчас годится любая.
— Я не могу так все время держать руку, — сказала она.
— Чуть-чуть, ну еще чуть-чуть, — сказал он.
Это было ужасно. Удивленный взгляд устремленных к ней глаз. Сосредоточенность удивления. То, как он измерял ее, будто что-то в ней было не так. Подумать страшно, что сказали б соседи. А если б вошел кто-нибудь из детей? Он рисовал и урчал.
— У тебя нелегкая жизнь, — внезапно заговорил он. Впервые во время работы. — Взаперти с тремя детьми; вечно у плиты да у раковины. Никакого просвета. Я часто думаю, — сказал он, — у тебя нет жизни, такой, что может называться жизнью.
Губы у нее натянулись от напряжения.
— Продолжай, — сказала она.
— Тебе нужно отдохнуть, встряхнуться, — сказал он, измеряя карандашом ее плечи.
— И не говори, — сказала она. — И кто мне это даст?
И тут до ее сознания медленно начало доходить, что было ей так ненавистно в этих его картинах. У него была своя жизнь, которую она не могла с ним разделить, тайная жизнь, куда ее не пускали. Он говорил поразительно мягко, — так, как говорит мужчина, который тебе изменяет. Поучает ее. Поучает, что нужно пойти и завести свою жизнь. Она сидела голая, насмешливо бормоча под нос пролетавшие мысли. Благодари звезды, говорила она (но не ему), что я не пытаюсь обзавестись собственной жизнью. Для женщины жизнь — это мужчина, это ребенок, это другой человек. Если бы у меня была собственная жизнь, так не с тобой.
— Ах, не шевелись, — сказал он.
— Будь у меня, как и у тебя, своя жизнь, это был бы мужчина. Теперь она видела ясно, чем были для него картины: рисование было изменой. Вроде другой женщины. Она глубоко вздохнула. Почувствовала резкий запах краски и вспомнила, что ей тогда сразу пришло в голову, когда она услышала в доме этот запах: другая женщина. Он изменял ей.
Внезапно, безо всякого предупреждения, она встала и прикрылась сорочкой. Было унизительно сидеть так перед ним.
С тех пор все так и осталось. У них побывал мистер Фредерик, управляющий, застенчивый, неулыбающийся человек с узким лицом и седыми волосами. Холостой. Часто можно видеть, как такие часами торчат у садка для кур в дальнем конце сада, видно, воображая себя петухами. Ясно, что у него с ее мужем пошло еще дальше. Водит его, будто медведя на веревочке. Глупец! И враг! «Не говорила я тебе, что от него не жди добра?» Он купил у мужа картину за 10 фунтов.
— Ваш муж — прирожденный художник, — говорит он ей. — Ему нужно время. Ему нужен покой. Ему нужен… Ему нужен…
Понятно, на что он намекает. Интересно, что они говорили о ней? Она ничего не отвечает. Просто ненавидит мистера Фредерика. И все же, когда наступает время обеда, хотя она и не понимает, почему она так делает, почему она должна быть рабой этой новой его любовницы, она на цыпочках входит к нему с подносом. Если он занят, она, чтобы не отвлекать его, молча ставит поднос и выходит. Она не задает никаких вопросов. Ничего не усложняет. Не подпускает детей. Потом кто-то один из них шмыгает носом, за ним — другой. Третий шмыгает погромче. А сама она идет в гостиную и все нюхает, нюхает, нюхает стены. Да где же она? Что он с ней сделал? Неужели он еще не принес ее вниз — свою новую картину?
Victor Sawdon Pritchett
Перепечатано из сборника рассказов В. С. Притчетта с любезного разрешения издательства «Чатто и Уиндус».
Журнал «Англия» — 1970 — № 4(36)
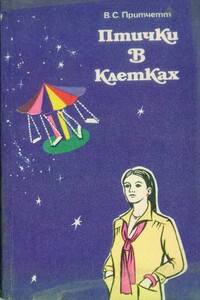
В том вошли лучшие рассказы разных лет выдающегося новеллиста современной Англии. В центре внимания писателя — внутренний мир человека, его радости, заботы, горести. Рассказы Притчетта неизменно отличает английский колорит, тонко подмеченные черточки национального характера.
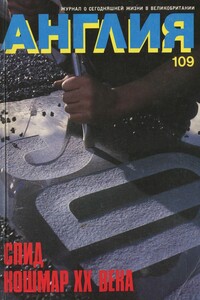
«Семьянин» взят из сборника рассказов под названием «На краю скалы», впервые опубликованного издательством «Чэтоу энд Уиндус» в 1979 году. Это прекрасно построенная история с хитроумным поворотом событий в сюжете и мастерски обрисованными героями. Особенно интересен образ Уильяма, которого читатель так и не встречает.

В сборник вошли пятнадцать повестей и рассказов, принадлежащих перу писателей из южно-китайской провинции Гуандун – локомотива китайской экономики. В остросюжетных текстах показано столкновение привычного образа мыслей и традиционного уклада жизни китайцев с вызовами реформ, соблазнами новой городской жизни, угрозами глобализации. Взлеты и падения, надежды и разочарования, борьба за выживание и воплощение китайской мечты – таковы реалии современной китайской действительности и новейшей литературы Китая.
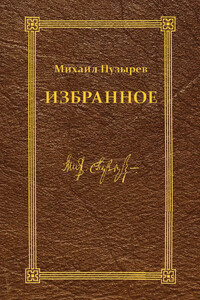
В «Избранное» писателя, философа и публициста Михаила Дмитриевича Пузырева (26.10.1915-16.11.2009) вошли как издававшиеся, так и не публиковавшиеся ранее тексты. Первая часть сборника содержит произведение «И покатился колобок…», вторая состоит из публицистических сочинений, созданных на рубеже XX–XXI веков, а в третью включены философские, историко-философские и литературные труды. Творчество автора настолько целостно, что очень сложно разделить его по отдельным жанрам. Опыт его уникален. История его жизни – это история нашего Отечества в XX веке.

Прошлое и настоящее! Оно всегда и неразрывно связано…Влюбленные студенты Алексей и Наташа решили провести летние каникулы в далекой деревне, в Керженецком крае.Что ждет молодых людей в неизвестном им неведомом крае? Аромат старины и красоты природы! Новые ощущения, эмоции и… риски!.. Героев ждут интересные знакомства с местными жителями, необычной сестрой Цецилией. Ждут порывы вдохновения от уникальной природы и… непростые испытания. Возможно, утраты… возможно, приобретения…В старинном крае есть свои тайны, встречаются интересные находки, исторические и семейные реликвии и даже… целые клады…Удастся ли современным и уверенным в себе героям хорошо отдохнуть? Укрепят ли молодые люди свои отношения? Или охладят?.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Ненад Илич – сербский писатель и режиссер, живет в Белграде. Родился в 1957 г. Выпускник 1981 г. кафедры театральной режиссуры факультета драматических искусств в Белграде. После десяти лет работы в театре, на радио и телевидении, с начала 1990-х годов учится на богословском факультете Белградского университета. В 1996 г. рукоположен в сан диакона Сербской Православной Церкви. Причислен к Храму святителя Николая на Новом кладбище Белграда.Н. Илич – учредитель и первый редактор журнала «Искон», автор ряда сценариев полнометражных документальных фильмов, телевизионных сериалов и крупных музыкально-сценических представлений, нескольких сценариев для комиксов.
