Чупадор - [2]
Я прижимаю к себе осколки сухой и ломкой крови, и она сама занимает свое место в моей плоти, снова возобновляет свой бег, вновь становится жидкой, но с каждым разом ее все меньше.
Разбитое судно, выброшенное на берег мирного мира, я поднимаю уставшие от боли веки и вижу нежное лицо Жанны, моей жены, которое блестит от слез. Я не в силах произнести ответ, хотя вижу отчаянный немой вопрос: откуда эти непонятные муки?
II
Каждое утро по возвращении из ночного ада первым утешением становится горькая улыбка Жанны; легкое прикосновение ее ладони к моему влажному лбу и соединение наших взглядов, уставших от протекающих параллельно ночей мучений.
Так после завершения бреда я вновь встречаюсь с самим собой — с Пьером Ле Мартруа, о котором — если вы вхожи в мир искусства — вам скажут, что он приобретает, а потом по воле обстоятельств уступает… Иными словами, я — торговец картинами, открыватель талантов, создатель знаменитых имен…
Кроме Жанны, которая вместе со мной каждую ночь теряет силы, хотя я приказываю ей отдыхать, при моем пробуждении присутствует ученый свидетель, пытающийся поддержать во мне надежду. Это Гарраль, профессор Луи Гарраль, врач, получивший от меня по старой дружбе чудесную коллекцию абстрактных полотен и теперь изучающий таинственный казус — мою болезнь…
Не оставляя ни малейших следов на мне, вокруг меня, моя кровь утекает, потихоньку испаряется, и непрестанные вливания новой крови, которые производит Гарраль, не могут поддержать ее нормального уровня. Вскоре я буду сух, как пустыня Сахара.
Каждое утро ничего не понимающие врачи отступают перед неведомым. Никакого внутреннего или внешнего кровотечения, никаких повреждений капилляров, никакого кровотечения из носа, кровохарканья, никакой гематурии и даже пурпуры… Ни скрытой лейкемии, ни злокачественной экзотической болезни, ничего… Но кровь моя медленно исчезает. Нельзя же возложить вину на крохотный порез в уголке губ, который никак не затягивается — я постоянно ощущаю на языке вкус драгоценной влаги.
И поэтому, помимо известности, приписываемой мне кое-какими критиками — такими же ловцами славы, — я превратился в некую знаменитость во всех гематологических службах столицы.
Утро всегда приносит утешительные письма далеких и внимательных друзей. В них говорится о моем выздоровлении, но эти письма вызывают во мне горькие мысли о чуде. Увы, постоянство веры в них равно лишь тому постоянству, с которым утекает моя кровь, как из пронзенного насквозь человека.
У Жанны тяжелая роль, но она играет ее с совершенством — выражение ее лица успокаивает, она вся в делах: разрабатывает проекты моего выздоровления… настаивает, чтобы мы сначала посетили ее мать в Савойе… потом ее сестру в Бретани… Похоже, горят нетерпением и мои двоюродные братья на юге… По ее словам, я, не теряя ни минуты, должен поскорее встать на ноги, чтобы совершить это долгое паломничество, которое окончательно избавит меня от хвори, хотя одна только мысль о поездке отравляет мне жизнь, а выполнение этого замысла могло бы лишить сил даже самого закаленного атлета.
Жанна говорит слишком много.
Гарраль, который сотню раз на дню сдерживается, чтобы не пощупать мне пульс, уверяет, что наконец обнаружил причину моего недуга, но для подтверждения диагноза ждет последнего анализа. Он изображает огромное удовлетворение и старается походить на Пастера, который только что создал сыворотку против бешенства. Но почему его лоб постоянно нахмурен? Почему он озабоченно покачивает головой, когда медсестра с лицом и шевелюрой сфинкса то и дело наполняет свежей кровью мои жаждущие артерии?
Жанна, быть может, не знает, но нам с Гарралем ясно, что я неотвратимо иду к смерти.
После полудня я засыпаю, попросив, чтобы в спальню впустили дневной свет, а если он слишком слаб, то требую зажечь все лампы. К вечеру тоска проникает в самые отдаленные уголки моего существа, готовя меня к страданиям.
Но у меня еще есть время на короткий отдых, ибо это тот час, когда один за другим, тихими шагами, чрезмерно соблюдая тишину, желая показать, как они прониклись моим состоянием, ко мне приходят близкие, словно предвосхищая тот момент, когда я буду окончательно мертв, а они явятся созерцать мой труп при свете четырех свечей.
Из-за них и ради них я преодолеваю муку бесконечной чайной церемонии, которой руководит Жанна. Друзья потрясены моим постоянным молчанием, моим состоянием послушного лежачего пациента, восковой бледностью лица и безмерной усталостью взгляда. Я же пытаюсь справиться с их неодолимым молчанием, желанием воссоздать атмосферу таких близких прежних дней, когда мы растаптывали или возвышали ту или иную картину, того или иного художника, чье-то определенное имя… Почти незаметно мои посетители переходят к критике; голоса звучат громче, друзья принимают чью-то сторону, вопрошают, заставляя меня опускать веки в знак согласия или протеста, а то и просто спорят без зазрения совести.
Их мнение категорично, они доказывают мне, что моя болезнь ничто по сравнению с наглостью того-то или с избыточностью натуры такого-то.
Вскоре, благодаря им, я немного оживаю и забываю об ужасающем ночном погружении в бездну, которое мне вскоре предстоит испытать.

Крайне интересное исследование знаменитого писателя и собирателя фольклора, в популярной форме представляющее не только Дьявола во французской народной традиции, но и легенды о колдунах, чудовищах, полу-языческих духах, «страшные сказки», выдержки из гримуаров, поверья, заклинания, обряды и молитвы. Книга написана в ироническом ключе и заставит читателя не раз от души рассмеяться.
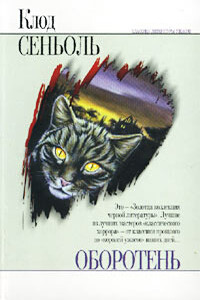
Клод Сеньоль — классик литературы «ужасов» Франции. Человек, под пером которого оживают древние и жуткие галльские сказания…Переплетение мистики и реальности, детали будничного крестьянского быта и магические перевоплощения, возвышенная любовь и дьявольская ненависть — этот страшный, причудливый мир фантазии Клода Сеньоля безусловно привлечет внимание читателей и заставит их прочесть книгу на одном дыхании.
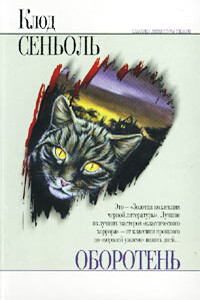
Зловредный майский кот… Зверь с семью запасными жизнями и семью временными смертями… Даже мертвый Матагот не совсем мертв. Тот, кто имеет Матагота, может спокойно умереть, зная, что Матагот продолжает ему служить верой и правдой.Готическая повесть Клода Сеньолья о Матаготе — коте-колдуне из французского фольклора (явного прототипа Кот в Сапогах).…Переплетение мистики и реальности, детали будничного крестьянского быта и магические перевоплощения, возвышенная любовь и дьявольская ненависть — этот страшный, причудливый мир фантазии Клод Сеньоля, безусловно, привлечет внимание читателей и заставит их прочесть книгу на одном дыхании.
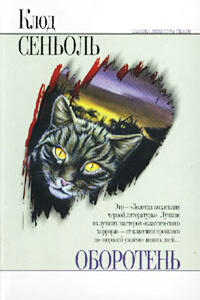
Я несусь, рассекая тьму, меня гонит пустое… вечно пустое брюхо… Мой голод заставляет людей дрожать от ужаса. Их скот источает аппетитные запахи, наполняя мой проклятый мир.Когда я выйду из этого леса, чьи тысячи застывших лап с кривыми цепкими корнями вцепились глубоко в землю… Когда я со своим неутолимым голодом окажусь меж толстых стен, что человек возвел вокруг своих шерстяных рабов, и выйду на клочок утоптанной земли, я превращусь в быструю и гибкую тень, в черную молнию, дышащую в кромешной тьме… Вздохи мои будут воем, пить я буду кровь, а насыщаться — горами нежной горячей плоти.
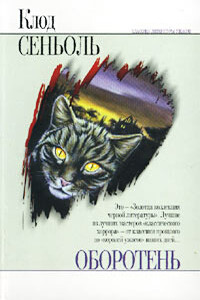
…Странный трактир заставлял внимательно прислушиваться к малейшему шуму и навевал вопросы по поводу столь необычного места.Кто бы мог подумать, что однажды посетив его, вы останетесь в нем навсегда…Мистического рассказ Клода Сеньоля — величайшего из франкоязычных мастеров "готической прозы".
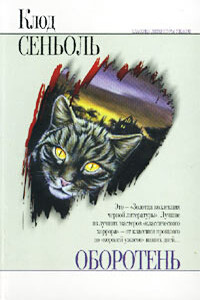
«Они мне сказали, что черты мои восстановятся… Они закрепили мои губы… сшили мои щеки… мой нос… Я чувствую это… Они превратили меня в живой труп, вынудили к бегству от самой себя… Но как я могу убежать от той другой, которую не хочу…»Мистического рассказ Клода Сеньоля — величайшего из франкоязычных мастеров «готической прозы».

Это — Чарльз Уильямc. Друг Джона Рональда Руэла Толкина и Клайва Льюиса.Человек, который стал для английской школы «черной мистики» автором столь же знаковым, каким был Густав Майринк для «мистики» германской. Ужас в произведениях Уильямса — не декоративная деталь повествования, но — подлинная, истинная суть бытия людей, напрямую связанных с запредельными, таинственными Силами, таящимися за гранью нашего понимания.Это — Чарльз Уильямc. Человек, коему многое было открыто в изощренных таинствах высокого оккультизма.
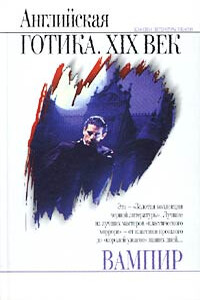
Это — английская готика хIх века.То, с чего началась «черная проза», какова она есть — во всех ее возможных видах и направлениях, от классического «хоррора» — до изысканного «вампирского декаданса». От эстетской «черной школы» 20-х — 30-х гг. — до увлекательной «черной комедии» 90-х гг.Потому что Стивена Кинга не существовало бы без «Странной истории доктора Джекила и мистера Хайда» Стивенсона, а Энн Райс, Нэнси Коллинз и Сомтоу — без «Вампиров» Байрона и Полидори. А без «Франкенштейна» Мэри Шелли? Без «Комнаты с гобеленами» Вальтера Скотта? Ни фантастики — ни фэнтези!Поверьте, с готики хIх в.

Сюжет романа построен на основе великой загадки — колоды карт Таро. Чарльз Вильямс, посвященный розенкрейцер, дает свое, неожиданное толкование загадочным образам Старших Арканов.

Кто не знает Фрица Лейбера — автора ехидно-озорных «Серебряных яйцеглавов»и мрачно-эпического романа-катастрофы «Странник»?Все так. Но… многие ли знают ДРУГОГО Фрица Лейбера? Тонкого, по-хорошему «старомодного» создателя прозы «ужасов», восходящей еще к классической «черной мистике» 20 — х — 30 — х гг. XX столетия? Великолепного проводника в мир Тьмы и Кошмара, магии и чернокнижия, подлинного знатока тайн древних оккультных практик?Поверьте, ТАКОГО Лейбера вы еще не читали!