Что глаза мои видели. Том 1. В детстве - [3]
Удавалось это им не сразу, но, раз удавалось, начиналась шумная беготня по всему дому и Марфе Мартемьяновне, после заправок лампад в детской, удавалось не сразу залучить нас к постелям.
Обыкновенно ей приходилось прибегать к помощи шустрой Матреши, горничной, которой предстояло изловить меня и нести на руках в детскую.
Матреша была милая, от нее пахло яблоками, так как в комнате, где она спала, на полках хранились яблоки и большие стеклянные банки с черносливом. Я обнимал ее шею и мне было уютно и приятно на ее упругой груди.
Младшая из моих кузин, Леля, особенно часто корившая меня за «глаза на мокром месте», однажды вздумала унять меня нарядившись «старой жидовкой», которая должна унести меня, вместе с ворохом старого платья, если я не уймусь.
Хотя она очень худо гримировалась «под жидовку» и я отлично различал, что под платком, накинутом ею на голову, несмотря на то, что и волосы она себе растрепала, была все та же Леля, а не жидовка, тем не менее отчаянию и страху моему не было конца. Я потом долго не мог уснуть, так как мне виделась уже настоящая «старая жидовка» с большим узлом, куда она свободно могла меня запихнуть.
На другой день «выдумщице» Леле очень досталось и от «тети Любы», и от Марфы Мартемьяновны и она была совсем не рада своей затее.
«Женское царство» окружало меня в детстве.
Я был в то время единственный «мужчина» в доме.
Дядя Всеволод, который впоследствии был долго неразлучен со мной, в это время служил еще в Петербурге.
Бабушкин сын от первого ее брака, Всеволод Дмитриевич Кузнецов, был флотским офицером. По его собственному признанию, он был плохим моряком, так как жестоко страдал от морской болезни. Уже во время мичманского кругосветного плавания его вынуждены были, где-то за границей, «списать на берег», так как он не только не свыкался с морем, но каждая новая качка становилась для него смертельной угрозой.
Благодаря этому ему стали давать береговые места, а в данное время он состоял офицером Морского Корпуса в Петербурге.
Остальной морской элемент обширной бабушкиной семьи, так или иначе прикосновенный к флоту, был либо в Кронштадте, либо в Севастополе, где вскоре должна была начаться знаменитая Севастопольская страда.
В качеств единственного наличного представителя мужского элемента в семье, балуемого женским полом, был, таким образом, я и потому не трудно себе представить, сколько женской любовной ласки выпало на мою долю с первых дней моего существования.
Однако, с кормилицей у меня, как мне рассказали потом, вышло огромное недоразумение.
На восьмом месяце моего кормления она неожиданно скрылась, «как в воду канула».
С вечера пропала, только ее и видели.
Воображаю, какой переполох поднялся с моим кормлением.
Искажался я, вероятно, неистово, так как, за неимением под рукой другой кормилицы, пришлось посадить меня «на рожок».
«Проклятая, чуть было не уморила ребенка», — говаривала и долго спустя и не раз Марфа Мартемьяновна.
«Проклятую» так и не разыскали, хотя все меры к тому были приняты.
Были от полиции и «розыск» и «публикации».
Публикации в то время так производились: ранним утром ходил по улицам своего околодка «служивый будочник» с барабаном и барабанил во всю.
Проходящие и из домов посланные, выбежав на улицу, должны были его спрашивать: «служивый, о чем публикация?» Он останавливался и собравшейся около него кучке народа объяснял: так, мол, и так, пропала корова, сбежала дворовая собака, или учинена покража таких-то вещей, а в данном случае сбежала, дескать, дворовая девка помещицы, генеральши Богданович, таких-то лет и приметы, мол, такие-то. Нередко сулилась при этом и награда за указание и розыск.
Таким же порядком оповещалось городское население о предстоящих публичных казнях и телесных наказаниях.
Кормилицей моей была бабушкина «дворовая девка», деревенская красавица Ганя, или «Ганка», которая перед тем очень провинилась. Живя при своей матери коровнице в «экономии», она родила незаконного ребенка и его, как мертвого, скрыла. Вероятно, сама же удавила.
Властным распоряжением бабушки ее «покрыли» т. е. не довели дела до полиции, ни до суда (не лишаться же девки!) а «по-домашнему» — наказали.
К этому времени подоспело мое рождение и, как здоровую и рослую, ее определили мне в кормилицы.
Дело пошло очень ладно. Здоровое деревенское молоко питало меня на славу. На красавицу кормилицу, пышно разряженную, что твой павлин, на улицах прохожие глядеть останавливались.
По рассказам домашних она полюбила меня, часто целовала и, баюкая, пела свои малороссийские песни.
Особенно любила петь:
И вдруг, бросив меня на произвол судьбы, пропала.
По соображениям домашних, основанным на кое-чем подслушанном Марфою Мартемьяновной в девичьих, красавицу Ганю «сманил» заезжий грек (греками «парусниками» в то время кишел Николаев), и увез ее на своем судне в Константинополь.
Бедная Ганя, вот куда занесли ее «вiтры буйны».
Чего доброго продал ее алчный грек какому-нибудь богатому турку в гарем… А кто знает, быть может, сам, плененный ее красотою, сделал ее подругой своей жизни, и стала она барыней.
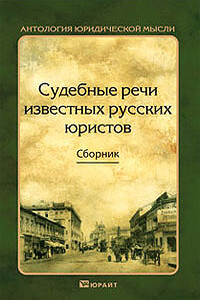
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Воспоминания русского адвоката Н. П. Карабчевского (1852–1925).Выпущены в Берлине в 1921 г. Старая орфография изменена.
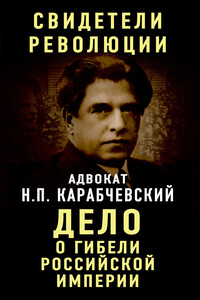
Николай Платонович Карабчевский – один из самых выдающихся адвокатов дореволюционной России. Он был вхож в высший свет, лично знаком с Николаем II, царскими министрами, со многими политическими деятелями этого времени. В своей книге он детально разбирает степень вины каждого из них в гибели Российской империи: перед читателями предстанут такие знаковые фигуры как сам царь, его жена, политики «правого» и «левого» толка – Гучков, Пуришкевич, Родзянко, Милюков, Керенский и Ленин. По мнению автора, все они, кто преднамеренно, а кто невольно способствовали развалу России в тот самый момент, когда она уже вступила на путь нормального развития.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге приведен библиографический список наиболее важных работ о жизни и творчестве Лермонтова. Он поможет ориентироваться в обширной литературе предмета, облегчит нахождение необходимых справок и будет способствовать дальнейшему углубленному изучению наследия писателя. Он должен также дать представление о направлениях в науке о Лермонтове и о деятельности отдельных ученых-лермонтоведов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.