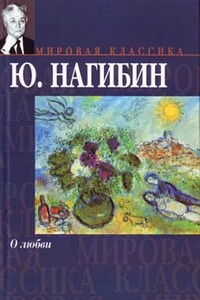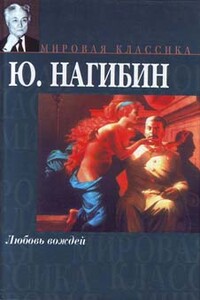Чистые пруды - [4]
Поэтому и потянуло нас на Чистые пруды, хоть не было здесь ни трубачей, ни многоцветья огней и фейерверков, — нас потянуло сюда, как тянет человека к истоку юности, к началу начал. И само собой получилось, что мы шли строем, по трое в ряд. Нам повстречался наш однокашник, веселый человек, Юрка Петров. Отдавая шутливую дань нашему воинскому строю, строгому молчанию и пилоткам, он крикнул:
— Привет бойцам-антифашистам!
Мы ответили в голос, без улыбки:
— Но пасаран!
Не пройдет и пяти лет, и те же слова, сказанные по-русски, многие из нас оплатят своей кровью. А сейчас они рядом, они полны силы и молодости, полны надежд, любви, замыслов, поэзии слов и поэзии чисел, они идут, неотличимые от тех, кому суждено остаться в живых, равные с равными, по людному бульвару к темному, тихому пруду…
Мы стояли у низенькой ограды пруда и смотрели на воду, когда в воздухе воссиял одинокий фейерверк. Его зажег какой-то малыш, крошечный чистопрудный патриот, не захотевший, чтобы его бульвар отставал от ликующих парков столицы. Голубая звездочка взвилась в небо, вспыхнула ослепительным белым, из белого родилось алое и длинными струями потекло вниз. С багрово озаренной воды навстречу мне медленно всплывали красивые, мужественные лица моих друзей, и запомнилось так на всю жизнь…
Когда мы ловили рыбу на Чистых прудах, нас часто окружали зеваки. Брала рыба очень плохо, часами не бывало поклевки, и, обозленные отсутствием впечатлений, бездельники начинали поносить нас и Чистые пруды.
— Охота дурью мучиться, разве здесь может быть рыба?
— В такой грязи не то что рыба — лягушка сдохнет!
— Нашли где ловить — в сточной канаве!
Мы не вступали в спор, мы продолжали удить, мы пили горстями холодную, ломившую зубы воду, а люди на берегу плевались и предрекали нам хворь. Но мы были уверены, что водоем наш чист, что рыбе в нем живется привольно и сытно и ей не по вкусу наша приманка: дождевые черви и хлебные катыши.
Как мы гордились и торжествовали, когда кому-нибудь из нас удавалось вытащить карасика или пескаря! Но случалось это редко и не могло развеять дурную славу нашего пруда.
Однажды осенью пруд спустили, чтобы углубить и расчистить. И вот тогда-то по берегам выстроились огромные плетеные корзины, доверху полные живой рыбы. Тяжко раздувая перламутровые жаберные крышки, упруго сгибая хвост, силились выскочить из корзин крупные, литые сазаны, подпрыгивали, будто чувствуя себя уже на сковородке, золотые и серебряные караси, зеркально светлели пескари и плотицы… Как же чист и щедр был наш водоем, если в нем могла дышать и жить вся эта рыбная несметь! Да, он был чист и щедр, как наше детство, он поил нас свежей водой, старый московский пруд, сказочное озеро молодых, давних лет!
Я изучаю языки
Моей матерью владело одно честолюбивое желание: обучить меня иностранным языкам. Лишних денег в семье не водилось, и мне шел уже седьмой год, когда мама отыскала наконец молодую немку, которая за недорогую плату согласилась давать мне уроки.
— Она будет не только учить Сережу, — говорила мать моему деду, — но и водить его гулять. Это настоящая Гретхен: белокурая, голубоглазая, совсем молоденькая и очень милая. Ее зовут Анна Ивановна, она родилась в России и прекрасно говорит по-русски.
— Весьма похвально, — раздувая усы, проворчал дед. — Ну а немецкий она знает?
— Ее фамилия Борхарт, — сказала мама, — самая немецкая фамилия.
Мама не преувеличивала достоинств Анны Ивановны Борхарт, она в самом деле была милая, молоденькая, белокурая и прекрасно говорила по-русски.
Мое воспоминание о первой учительнице похоже на некоторые кубистские портреты Пикассо. В странном, хаотическом, хотя, быть может, закономерном сопряжении плоскостей и линий вдруг проглянет живой влажный глаз, нежная крутизна скулы, смутный намек на какую-то телесность, но все вместе не складывается в цельный и отчетливый образ. С пятилетнего возраста моя жизнь ясно, в мельчайших подробностях освещена памятью, но все связанное с немкой Анной Ивановной видится мне вкраплениями реальности в полубредовый перепут красочных мазков. Помню ярко-синие глаза и светло-льняные, почти белые волосы, помню лиловые шерстяные чулки и серые фетровые ботики, помню обезьяний воротничок шубки. Но не помню, как она впервые появилась в нашем доме, как приходила и уходила, чем мы занимались с ней во время уроков. А ведь, наверное, она чему-то учила меня, но этого, хоть убей, не помню.
Зато крепко засело в памяти другое. Мы гуляем на Чистых прудах, маленькой лопаточкой я строю из снега домик, рядом пританцовывают серые ботики и лиловые чулки. Я не умею строить: я просто подравниваю сугроб лопаткой, прихлопываю с боков, получается что-то похожее на вздувшийся в духовке сыроватый пирог. Но я втыкаю сверху щепку — это труба, с боков криво рисую похожие на тюремные окошки, и у меня нет никаких сомнений, что я построил дом.
Анна Ивановна молча — она почти все делает молча — берет у меня из рук лопатку, ловко обрезает мое сооружение со всех четырех сторон, и вместо кривых склонов вырастают прямые, стройные стены, затем, набросав поверх свежего снега, она несколькими точными ударами лопатки подводит дом под двускатную крышу. Никакой трубы, никаких рисованных окошек, и все же это настоящий, красивый и уютный домик. Я очарованно гляжу на дивное сооружение. Как жаль, что его нельзя унести с собой!

Молодая сельская учительница Анна Васильевна, возмущенная постоянными опозданиями ученика, решила поговорить с его родителями. Вместе с мальчиком она пошла самой короткой дорогой, через лес, да задержалась около зимнего дуба…Для среднего школьного возраста.

В сборник вошли последние произведения выдающегося русского писателя Юрия Нагибина: повести «Тьма в конце туннеля» и «Моя золотая теща», роман «Дафнис и Хлоя эпохи культа личности, волюнтаризма и застоя».Обе повести автор увидел изданными при жизни назадолго до внезапной кончины. Рукопись романа появилась в Независимом издательстве ПИК через несколько дней после того, как Нагибина не стало.*… «„Моя золотая тёща“ — пожалуй, лучшее из написанного Нагибиным». — А. Рекемчук.

В настоящее издание помимо основного Корпуса «Дневника» вошли воспоминания о Галиче и очерк о Мандельштаме, неразрывно связанные с «Дневником», а также дается указатель имен, помогающий яснее представить круг знакомств и интересов Нагибина.Чтобы увидеть дневник опубликованным при жизни, Юрий Маркович снабдил его авторским предисловием, объясняющим это смелое намерение. В данном издании помещено эссе Юрия Кувалдина «Нагибин», в котором также излагаются некоторые сведения о появлении «Дневника» на свет и о самом Ю.

Дошкольник Вася увидел в зоомагазине двух черепашек и захотел их получить. Мать отказалась держать в доме сразу трех черепах, и Вася решил сбыть с рук старую Машку, чтобы купить приглянувшихся…Для среднего школьного возраста.

Семья Скворцовых давно собиралась посетить Богояр — красивый неброскими северными пейзажами остров. Ни мужу, ни жене не думалось, что в мирной глуши Богояра их настигнет и оглушит эхо несбывшегося…
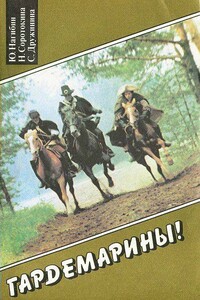
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Сборник произведений грузинского советского писателя Чиладзе Тамаза Ивановича (р. 1931). В произведениях Т. Чиладзе отражены актуальные проблемы современности; его основной герой — молодой человек 50–60-х гг., ищущий своё место в жизни.
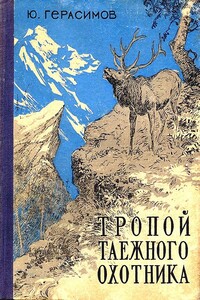
Литературно-документальная повесть, в основе сюжета которой лежат собственные воспоминания писателя. …Лето 1944 года. Идёт четвёртый год войны. Лейтенант Симов откомандирован в верховья реки Ингоды на заготовку продовольствия и добычу меха. Обескровленная долгой войной страна и советская армия остро нуждаются в мясе, рыбе и деньгах за панты и пушнину. Собрав в Чите бригаду из трёх опытных местных охотников, главный герой отправляется в забайкальскую тайгу… В процессе повествования автором подробно и скрупулёзно освещаются все стороны таёжного промысла. Рассказы о повадках и поведении лесной и речной живности, зарисовки природы и быта промысловиков, описание их добычных хитростей, ухваток и тонкостей изготовления различных снастей и приспособлений — всему нашлось место в этой книге. Текст богато иллюстрирован видами природы и изображениями животных, а также практическими рисунками и чертежами.

Повести и рассказы советского писателя и журналиста В. Г. Иванова-Леонова, объединенные темой антиколониальной борьбы народов Южной Африки в 60-е годы.
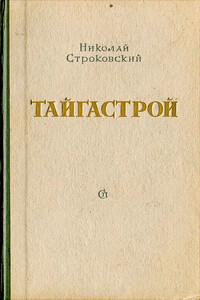
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В однотомник Сергея Венедиктовича Сартакова входят роман «Ледяной клад» и повесть «Журавли летят на юг».Борьба за спасение леса, замороженного в реке, — фон, на котором раскрываются судьбы и характеры человеческие, светлые и трагические, устремленные к возвышенным целям и блуждающие в тупиках. ЛЕДЯНОЙ КЛАД — это и душа человеческая, подчас скованная внутренним холодом. И надо бережно оттаять ее.Глубокая осень. ЖУРАВЛИ УЛЕТАЮТ НА ЮГ. На могучей сибирской реке Енисее бушуют свирепые штормы. До ледостава остаются считанные дни.
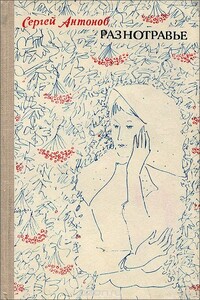
Семь повестей Сергея Антонова, объединенных в сборнике, — «Лена», «Поддубенские частушки», «Дело было в Пенькове», «Тетя Луша», «Аленка», «Петрович» и «Разорванный рубль», — представляют собой как бы отдельные главы единого повествования о жизни сельской молодежи, начиная от первых послевоенных лет до нашего времени. Для настоящего издания повести заново выправлены автором.Содержание:Лена.Поддубенские частушки.Дело было в Пенькове.Тетя Луша.Аленка.Петрович.Разорванный рубль.

В настоящий сборник входят все произведения Юрия Нагибина, посвященные мастерам культуры разных времен и народов, начиная от старшего современника Шекспира, английского поэта и драматурга Кристофера Марло, мятежного протопопа Аввакума и просветителя Тредиаковского до Рахманинова, Бунина, Иннокентия Анненского, Хеменгуэя и Имре Кальмана.