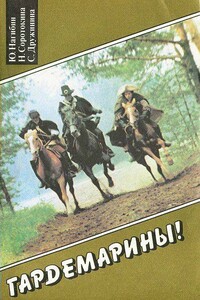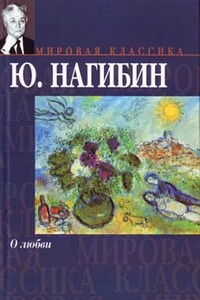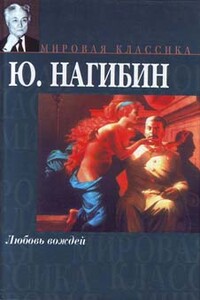— Меня все-таки очень беспокоит Чернов и компания, — говорил я. — Мы должны обязательно победить, а то все развалится. Ребятам надоело, что мы какие-то вторенькие…
— А разве можно приделать человеку чужие руки? — неожиданно спросила Нина.
— Какие руки?
— Ну, помнишь, Конрад Вейдт…
— А, «Руки Орлаха»! Да чепуха все это!
— Какие у него глаза! — сказала Нина. — Я ни у кого не видела таких глаз. Запавшие, огромные…
— Послушай, — прервал я, — может, мы зря включили Чернова, Тюрину и Сергиенко в одну бригаду?
— Ох! — сказала Нина. — Настали веселые времена. Кроме утиля, ты уже ни о чем не можешь говорить!
Это была правда: когда меня что-нибудь захватывало, я, будто лошадь в шорах, уже ничего не видел по сторонам. И тут я понял вдруг, за что еще так люблю пионерскую работу, в особенности авральные дела. В эту пору я немного отдыхал от той постоянной, изнурительной заботы, какой была для меня Нина. Ведь вот я даже не сразу понял, что взамен Витьки Шевелева у меня появился новый соперник — Конрад Вейдт. Все девчонки влюблялись в киноартистов, но отвлеченная любовь не мешала их романам с одноклассниками. А Нина отдавала им свое сердце безраздельно, будто герой мог сойти с экрана и принять ее дар.
Мы замолчали. По освещенной фонарями земле наперерез мне текла четкая и стройная Нинина тень. И вот по этой тени я впервые увидел, как сильно изменилась она за годы нашей дружбы. Прежде ее коротенькая, круглая тень катилась колобком, потом она стала все утончаться и вот сейчас, повзрослев раньше своей хозяйки, стала тенью маленькой женщины. И я пожалел, что не могу сейчас же ринуться в бумажный водоворот…
Мы перешли линию трамвая. В устье Телеграфного переулка маячили знакомые фигуры: Калабухов, Лялик, Гулька. Они поджидали нас, вернее, меня. Тут не отделаешься маленькой дракой. До чего же не вовремя! Я не могу явиться завтра на почтамт с разбитым лицом.
— У тебя есть медяки? — спросил я Нину.
— Тебе нельзя сейчас драться, — быстро сказала она, — ступай к Хоркам.
На углу Телеграфного и Чистых прудов в полуподвальном этаже жили два брата с нелепой фамилией Хорок. Старший из них, Миша, учился с нами в одном классе.
— А зачем я к ним пойду? — проговорил я нерешительно.
— У них мать в театре работает, пусть Мишка притащит старые афиши.
— Ну что же! — я улыбнулся. — Благородный повод, чтобы не дать набить себе морду. До завтра! — Я помахал Калабухову рукой и сбежал вниз по крутым ступенькам.
От своей матери, цыганской певицы, братья Хорок унаследовали южную смуглоту лиц, глаза, как влажные маслины, жесткую кудрявость иссиня-черных волос. Старший, Миша, был тучный подросток, с томной округлостью движений, сонно приоткрытым ртом, лентяй и меланхолик. Мне думается, в какой-то мере его меланхолия была порождена однообразной и утомляющей необходимостью сто раз на дню объяснять разным людям, почему он Хорок, а не Хорек, коль уж носит такую фамилию.
Младший, Толя, такой же смуглый, кудрявый и черноглазый, во всем остальном был вовсе не похож на брата: худенький, с подвижными, тонкими мускулами лица, с быстрыми, всегда занятыми руками, полный неиссякаемого любопытства к окружающему. Старший с неохотой влачил по жизни свое заленившееся тело, младший, весь напоенный внутренним движением, был прикован к постели детским параличом.
Когда я вошел, Толя, высоко подпертый подушками, мастерил что-то из кусочков картона.
— Здорово, Ракитин! — закричал он радостно.
Миша валялся на тахте; он только закатил глаза, показав голубые белки, и вздохнул.
— Что скажешь о новой вожатой? — жадно спросил Толя.
— Поживем — увидим, — ответил я удивленно, хотя уже мог бы привыкнуть к тому, что Толе ведомы все наши школьные дела. — А как продвигается дрессировка Мурзика?
— Неважно. По-моему, Мурзик считает меня никудышным дрессировщиком. — Толя вдруг сделал большие глаза и приложил палец к губам.
Со стороны тахты слышалось сонное бормотание:
Грустно-алый закат смотрел в лицо…
Грустно-алый закат смотрел в лицо…
Я обомлел: Хорок-старший сочинял стихи! Вот уж не думал, что он способен на такой лирический подвиг!
— Грустно-алый закат… — томно простонал Миша и замолк, по-судачьи приоткрыв рот.
— Плохо твое дело, Ракитин, — сказал Толя. — Знаешь, кому посвящены стихи?
— Заткнись! — вяло донеслось с тахты.
— Вон как! — догадался я. — Бедный Конрад Вейдт.
— А что? — заинтересованно спросил Толя. — У Нины новый герой?
— Да… В «Маяке» подряд шли «Человек, который смеется» и «Руки Орлаха»… Братцы, вот какое дело. Ваша мать работает в театре, там до черта старых афиш и вообще всякой лохматуры, — я невольно повторил выражение Лины.
— Опять утиль? — с унылым отчаянием произнес Миша.
— Да, опять! Кстати, почему ты не был на сборе?
Миша не ответил.
— Зубная боль в сердце, — засмеялся Толя. — Грустно-алый закат смотрел в лицо.
— Хотя бы один мешок, — сказал я Мише заискивающе.
— Мешок? — повторил Миша, приподнявшись на локте. — Чтоб я потащил мешок?
— Мешка мало! — решительно сказал Толя, и глаза его загорелись. — Он притащит два мешка!
— Сумасшедший! — пробормотал Миша.
— Мое условие: стихи против двух мешков.
— Стихи? — недоверчиво, с любопытством повторил Миша. — Какие стихи?