Четвёртый круг - [25]
Ее узнал бы я, верно, и в тьме густейшей, она всю жизнь перед глазами у меня стояла, еще с минуты той далекой, когда Мастер, отделившись от учителя своего Теофила, первый и единственный раз увидел ее на ярмарке давней, как зазывала она народ стоя около шатра своего пестрого, товары у нее покупать, а какие — в тумане лет прошедших различить уже не могу.
Но зато, как и Мастер мой, хорошо запомнил я улыбку ее, скромную и развратную одновременно, щедро расточаемую толпе податливой, излишнюю вовсе и тем более порочную, ибо народ и без того покупал с охотой…
Точно такую же улыбку, искусством безупречным самого нечестивого к жизни вызванную, видел я потом на бесчисленных стенах монастырских, которые Мастер расписал, придав Марии лику безгрешному свойство, сутью богохульства наихудшего являющееся.
С самого начала упрекал я Мастера всячески за эту непристойность крайнюю, боясь, что гнев игуменов навлечем на себя, ибо невозможным казалось, чтобы от глаз их опытных, строгих ускользнул оттенок развратный этот улыбки Марии, как не прошел он мимо многих монахов простых, что тайком под ним блудным мыслям непристойнейшим предавались.
Я это хорошо знаю: ведь не раз случалось мне видеть, как они похоти своей скрытой втайне выход давали после того, как на лик Марии пристально уставясь, молитвы творили смиренные. Ибо зачем бы потом те среди них, кто не менее грешен, но на покаяние более готов, искупительному наказанию розгами подвергались по своей воле, без понукания старейшины монастырского, как не затем, чтобы грех действительно из тяжелейших смыть?
Из тяжелейших, верно, но кто бы им это искушение мог в вину поставить — а я менее всех среди смертных, прости, Господи, прегрешения мои, — ибо воистину это работа дьявола была…
И все-таки игумены никогда не говорили ничего про улыбку ту; то ли потому что словом своим обнаружили бы похотливость очей собственных, то ли глаза их воистину грешным чарам плотским не подвержены — не знаю. Но только в какой бы монастырь мы ни прибыли, за нами улыбка Марии двусмысленная следовала, дабы неустойчивых мучить постоянно, а твердых в вере еще более, наверное, укреплять.
Хотя я, убогий, скорее к первым относился, думалось мне, что достиг уже я времени блаженного, когда в лике настенном Марии не могу видеть ничего, кроме целомудрия и беспорочности бескрайней, единственно Всевышнему угодной. Но обманулся я, ибо как только под капюшоном узнал черты лика божественного, так почувствовал: горит лицо от огня древнего, угасшего, что причиной был многих раскаяний в юности моей.
Смущенный чудом безмерным явления этого нежданного, а также грехами уже забытыми, но при виде Марии ожившими, я ладони сложил униженно, рот открыв, дабы скорее прощение испросить, нежели получить разъяснение некое здравое — разуму моему неразвитому доступное — появлению ее в образе том же, нимало не изменившемся после стольких лет.
Однако нечистые уста мои старые никакого звука не издали, потому что ладонь ее белая тонкая, из рукава рясы появившись, губ моих коснулась прикосновением легчайшим, от которого дрожь странную почувствовал я, что поднялась по хребту до самого темени и здесь блаженством сильным обернулась. Прикосновение то коротким было, миг или два, затем ладонь исчезла, но еще долго ощущал я, как уста мои греет милость небесная всеблагая.
Это было все, что я от Марии получил, — и все же гораздо больше, нежели когда-либо, ничтожный, надеяться смел, а она отвернулась затем, надолго забыв обо мне, сокрушенном, словно меня в темнице и не было вовсе, и вновь к Мастеру моему почившему подступила, склонившись над лицом его спокойным, судорогой смертной непонятно почему доселе не изуродованным.
Постояла так неподвижно несколько минут над одром Мастера, потрясенная болью безмерной, как я думаю, хотя лица ее видеть не мог. А потом обе руки над ним простерла, будто оплакивание жалобное начать собиралась, причитание не менее печальное, чем то, что над телом Христовым возносилось, когда Его, мученика величайшего, с креста сняли.
Но страх пронзил меня тогда, совсем зрелищу этому святому неприличествующий, испугался я, что голос ее женский, совсем неожиданный и обету молчания противоречащий, из темницы под подворьем игуменовым донесется до ушей монахов, в смятении находящихся, и привлечет их, смущенных, сюда — посмотреть, какое еще новое чудо монастырь их посетило. А от мысли страшной, что на Марию и другие глаза, еще менее моих достойные, глядеть будут, дрожь сильная опять меня охватила, но не такая, как прежде.
Однако ничего подобного не произошло. Из уст Марии никакого звука не раздалось, ни плача, ни стона, и ни вздоха даже. Но пока уста ее немы оставались, руки вытянутые весьма красноречивы стали, сначала лишь дрожа словно от восторга некого неистового, а затем из них свечение стало изливаться к телу неподвижному Мастера почившего, слабое поначалу, так что я его едва разобрать мог при свете свечи более ярком, но сильнее оно становилось с мигом каждым и через несколько минут в сияние настоящее ангельское превратилось, тьму изгоняя из самых далеких углов темницы.
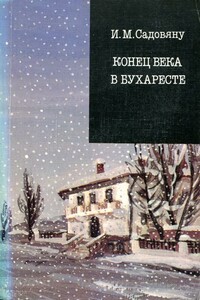
Роман «Конец века в Бухаресте» румынского писателя и общественного деятеля Иона Марина Садовяну (1893—1964), мастера социально-психологической прозы, повествует о жизни румынского общества в последнем десятилетии XIX века.

Начинается прозаическая книга поэта Вадима Сикорского повестью «Фигура» — произведением оригинальным, драматически напряженным, правдивым. Главная мысль романа «Швейцарец» — невозможность герметически замкнутого счастья. Цикл рассказов отличается острой сюжетностью и в то же время глубокой поэтичностью. Опыт и глаз поэта чувствуются здесь и в эмоциональной приподнятости тона, и в точности наблюдений.
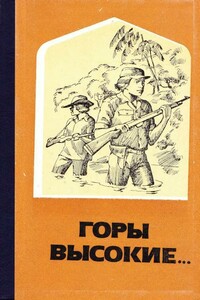
В книгу включены две повести — «Горы высокие...» никарагуанского автора Омара Кабесаса и «День из ее жизни» сальвадорского писателя Манлио Аргеты. Обе повести посвящены освободительной борьбе народов Центральной Америки против сил империализма и реакции. Живым и красочным языком авторы рисуют впечатляющие образы борцов за правое дело свободы. Книга предназначается для широкого круга читателей.
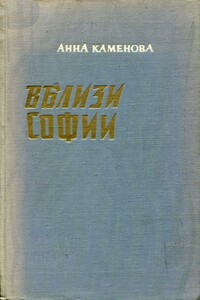
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Эти дневники раскрывают сложный внутренний мир двадцатилетнего талантливого студента одного из азербайджанских государственных вузов, который, выиграв стипендию от госдепартамента США, получает возможность проучиться в американском колледже. После первого семестра он замечает, что учёба в Америке меняет его взгляды на мир, его отношение к своей стране и её людям. Теперь, вкусив красивую жизнь стипендиата и став новым человеком, он должен сделать выбор, от которого зависит его будущее.

Писатель Дмитрий Быков демонстрирует итоги своего нового литературного эксперимента, жертвой которого на этот раз становится повесть «Голубая чашка» Аркадия Гайдара. Дмитрий Быков дал в сторону, конечно, от колеи. Впрочем, жертва не должна быть в обиде. Скорее, могла бы быть даже благодарна: сделано с душой. И только для читателей «Русского пионера». Автору этих строк всегда нравился рассказ Гайдара «Голубая чашка», но ему было ужасно интересно узнать, что происходит в тот августовский день, когда герой рассказа с шестилетней дочерью Светланой отправился из дома куда глаза глядят.
