Черный охотник. Формы мышления и формы общества в греческом мире - [97]
Однако, упрощенно говоря, вопрос заключается в следующем: всякий ли факт языка есть факт мышления в активном значении этого слова?
В каждом лингвистическом коде заключено несколько мыслей, а не одна мысль; по-моему, нельзя считать второстепенной разницу между «малыми перцепциями» Лейбница и самим восприятием, между языком и целенаправленным словом. У Леви-Стросса и его последователей структура то структурирующая, то структурируемая, и именно в этом ее двусмысленность. В древнегреческом языке имеется индоевропейское по своему происхождению чередование гласных, которое обозначает разницу в аористе единственного и множественного числа (etheka, ethmen), и ряд других любопытных явлений, поддающихся «структурированию». Предполагает ли этот факт наличие «лингвистического оператора», заставляющего «мышление» работать? В одном из языков Океании имеется девять двойственных чисел, что указывает на весьма тонкую классификацию категорий дуальных отношений. Является ли это результатом самостоятельной мыслительной деятельности, факт ли это сознания вообще, предполагающий тот радикальный отрыв от природы, который, начиная именно с греков, стал означать для нас мышление?
Я бы охотно присоединился к недавнему высказыванию Ж.-Ф. Лиотара (Lyotard J.-F.): «Дикари конечно же разговаривают, но на диком языке, они бережливы в обращении с ним... "Словесные проявления у них часто ограничены рамками заданных обстоятельств, вне этих рамок слова не тратятся даром" (Lévi-Strauss. Anthropologie structurale. P. 78). Они похожи на крестьян Брис Параны или обитателей бальзаковской провинции: то, о чем они говорят, находится перед ними в облике квази-восприятий, которым их культура наделяет вещи и людей. В результате язык не служит для них, как для нас, инструментом объяснения, восстановления или установления смысла реальности... поэтому первобытная речь — не дискурс об этой реальности..., а существование, достигаемое други~ии способами» (Lyotard 1965: 71).
Леви-Стросс пишет: «Для индейцев омаха одно из их главных отличий от белых людей состоит в том, что индейцы не рвут цветов» (Lévi-Strauss 1962а: 58). Добавим: чтобы ставить их в вазы или собирать гербарии. Для Леви-Стросса язык есть средство, позволяющее различать «природу» и «культуру». Оставим за ним объяснение тотемизма вообще и примем его определение последнего как интеллектуального «наложения животного и растительного мира на общество» (Lévi-Strauss 19626: 144). Однако отождествление человеческого с животным или растительным (даже если такое отождествление — всего лишь логический ход, даже если оно неотделимо — в рамках бинарной логики — от противопоставления человеческого животному или растительному) уведет нас слишком далеко от науки и философии. Они же начинаются тогда, когда язык отделяется от того, что он стремится объяснить и выразить, когда становится фундаментальным различие между означаемым и означающим. По-своему эта мысль выражена в знаменитом изречении Гераклита: «Владыка, чье прорицалище в Дельфах, и не говорит, и не утаивает, а подает знаки» (фр. 93)[882]. Остается лишь узнать, каков был тот фундаментальный опыт, сделавший возможным у греков такое отделение, такую решительную денатурацию мышления.
Резкой критике подвергается не только традиционная позитивистская концепция науки и научного мышления, но и представления о Греции и мышлении древних греков. К счастью, греческих мыслителей больше не изображают этакими рационалистами, витающими в облаках чистого разума. Последние сто лет классических исследований закончились скорее удалением от нас Греции, чем ее приближением. Таким образом, можно считать открытым вопрос: функционировал ли греческий разум по тому же образцу и с теми же мотивациями, что и наш? В частности, современные исследователи постоянно наталкиваются на проблему: почему греческий рациональный гений, изобретший математику, не нашел для нее практического применения? Некоторые даже задаются вопросом, имеет ли вообще греческий разум какое-либо отношение к рационализму в его современном виде.
Начиная с Ницше, классическая филология шла по пути, где предпочтение отдавалось изучению так называемых «темных сторон» греческой души, противопоставлению Диониса Аполлону. В начале своей замечательной книги «Греки и иррациональное» (Dodds 1951) Э. Доддс приводит следующий весьма характерный для умонастроения наших современников рассказ: «Однажды, несколько лет тому назад, когда я рассматривал скульптуры Парфенона в Британском музее, ко мне подошел один молодой человек и сказал с чувством: "Знаю, что мое признание ужасно, но эти греческие махины меня нисколько не трогают". Его слова показались мне любопытными, и я спросил о причине такого безразличия. Он немного подумал и ответил: "Видите ли, они кажутся мне слишком рациональными"». Доддс показывает (часто удачно, иногда спорно) иррациональные стороны греческого разума, его шаманизм, менадизм и одновременно его же попытки обуздать эти «темные силы». Оставим книгу Доддса и рассказанный в ней анекдот и вспомним, что после Хайдеггера (Heidegger) мы стали куда сдержаннее в попытках отыскать «рационализм», а заодно и «гуманизм» у Парменида или Гераклита, что нынче больше внимания уделяется не цепи логических рассуждений и доказательств, а важной роли раскрывающего истинность сущего exaiphnes — «внезапного» (иногда неверно трактуемого) в платоновских «Пармениде» (третья гипотеза) и Седьмом письме.
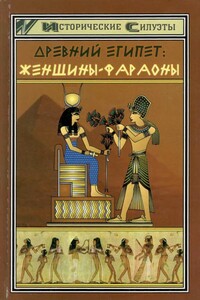
Что же означает понятие женщина-фараон? Каким образом стал возможен подобный феномен? В результате каких событий женщина могла занять египетский престол в качестве владыки верхнего и Нижнего Египта, а значит, обладать безграничной властью? Нужно ли рассматривать подобное явление как нечто совершенно эксклюзивное и воспринимать его как каприз, случайность хода истории или это проявление законного права женщин, реализованное лишь немногими из них? В книге затронут не только кульминационный момент прихода женщины к власти, но и то, благодаря чему стало возможным подобное изменение в ее судьбе, как долго этим женщинам удавалось удержаться на престоле, что думали об этом сами египтяне, и не являлось ли наличие женщины-фараона противоречием давним законам и традициям.

От издателя Очевидным достоинством этой книги является высокая степень достоверности анализа ряда важнейших событий двух войн - Первой мировой и Великой Отечественной, основанного на данных историко-архивных документов. На примере 227-го пехотного Епифанского полка (1914-1917 гг.) приводятся подлинные документы о порядке прохождения службы в царской армии, дисциплинарной практике, оформлении очередных званий, наград, ранений и пр. Учитывая, что история Великой Отечественной войны, к сожаления, до сих пор в значительной степени малодостоверна, автор, отбросив идеологические подгонки, искажения и мифы партаппарата советского периода, сумел объективно, на основе архивных документов, проанализировать такие заметные события Великой Отечественной войны, как: Нарофоминский прорыв немцев, гибель командарма-33 М.Г.Ефремова, Ржевско-Вяземские операции (в том числе "Марс"), Курская битва и Прохоровское сражение, ошибки при штурме Зееловских высот и проведении всей Берлинской операции, причины неоправданно огромных безвозвратных потерь армии.

“Последнему поколению иностранных журналистов в СССР повезло больше предшественников, — пишет Дэвид Ремник в книге “Могила Ленина” (1993 г.). — Мы стали свидетелями триумфальных событий в веке, полном трагедий. Более того, мы могли описывать эти события, говорить с их участниками, знаменитыми и рядовыми, почти не боясь ненароком испортить кому-то жизнь”. Так Ремник вспоминает о времени, проведенном в Советском Союзе и России в 1988–1991 гг. в качестве московского корреспондента The Washington Post. В книге, посвященной краху огромной империи и насыщенной разнообразными документальными свидетельствами, он прежде всего всматривается в людей и создает живые портреты участников переломных событий — консерваторов, защитников режима и борцов с ним, диссидентов, либералов, демократических активистов.
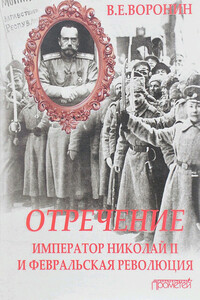
Книга посвящена деятельности императора Николая II в канун и в ходе событий Февральской революции 1917 г. На конкретных примерах дан анализ состояния политической системы Российской империи и русской армии перед Февралем, показан процесс созревания предпосылок переворота, прослеживается реакция царя на захват власти оппозиционными и революционными силами, подробно рассмотрены обстоятельства отречения Николая II от престола и крушения монархической государственности в России.Книга предназначена для специалистов и всех интересующихся политической историей России.

В книгу выдающегося русского ученого с мировым именем, врача, общественного деятеля, публициста, писателя, участника русско-японской, Великой (Первой мировой) войн, члена Особой комиссии при Главнокомандующем Вооруженными силами Юга России по расследованию злодеяний большевиков Н. В. Краинского (1869-1951) вошли его воспоминания, основанные на дневниковых записях. Лишь однажды изданная в Белграде (без указания года), книга уже давно стала библиографической редкостью.Это одно из самых правдивых и объективных описаний трагического отрывка истории России (1917-1920).Кроме того, в «Приложение» вошли статьи, которые имеют и остросовременное звучание.
