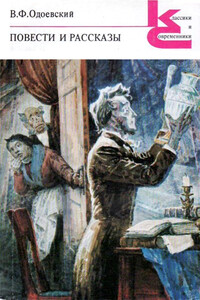Чернокнижник - [19]
Теперь позвольте обратить ваше внимание на другие, доселе вам мало известные лица. Мне самому жаль оставить нашу милую барышню одну, в саду, ночью. Да что же делать? Надобно! Итак, слушайте. В этот день Федор Иваныч, пугалище Натальи Петровны и Филимоныча, засиделся у нашего помещика долее обыкновенного. Он поутру ездил рекомендоваться к наместнику, жившему в своей жалованной даче, верстах в 15 от села Петра Алексеича, и оттуда подоспел к обеду радушного и гостеприимного секунд-майора. Он совершенно обворожил старика своими рассказами и прибасенками и, по настоятельной просьбе хозяина, остался с ним почти до 11 часов вечера. Вы, верно, помните, что главнейший упрек ему, деланный Филимонычем, состоял в том, что он часто и долго разговаривал с коновалом Еремеем. И это была правда; но надобно же вам сказать, что свело его с ним. Федор Иваныч Громов, как я уже выше сказал, был статен, красив, ловок, с черными, как смоль, глазами; служил прежде в гусарском полку, следовательно, бывал отчаянным повесою, и с наружными качествами, данными ему природою, нравился многим женщинам и имел многие приключения, в которых позавидовали бы ему теперешние Ловеласы. Но что и говорить! Тогда были смелее, ловчее нашего; а теперешняя молодежь, и посмотреть-то на нее, так что в ней? Итак, Федор Иваныч уже привык побеждать дамские сердца. Тем оскорбительнее для его самолюбия было столь заметное отвращение к нему Натальи Петровны. В первый раз, как он ее увидел в церкви, она ему понравилась; с тех пор он стал часто навещать ее отца, и чем менее он производил на нее влияния, тем более раздражалась его гордость. Наконец, это чувство, по всем психологическим переходам, обратилось в страсть самую пылкую, самую безутешную. Когда он бывал один, он рвал на себе волосы, топал в бешенстве ногами, богохульничал и кощунствовал. Такова была несчастная любовь отставного гусара! И что могло его рассеять в деревне? В карты и зерны не с кем было играть; театров и общества не было. Занятия? Но разве одна трубка, и та даже не могла его рассеять. Во первые времена своего знакомства с Фаддеевым, когда страсть уже начинала понемногу в нем разгораться, переходя пешком и в задумчивости хворостовый мост, перекинутый через Дон в селе Петра Алексеича, он почувствовал, что его кто-то сзади толкнул рукою; он обернулся и увидел перед собою старика, с волосами и длинною бородою, как лунь, седыми, в широком армяке из серой китайки, подпоясанного ремнем, и в сапогах. По одежде тотчас можно было узнать, что это дворовый человек.
— Что тебе надобно? — спросил Громов полурассеянно.
— Мне, сударь? мне-то ничего не надобно, — отвечал старик насмешливо и потирая себе усы, — но вам-то жить приходить плохо, очень плохо. Вишь, каким вы сентябрем идете.
— А тебе кто это сказал, старый хрен! — прервал его с досадою Громов.
— Кто? Да никто. Эка невидальщина! Не знаю я вас, молодых людей! Мало живу на свете. Вот уже слишком семьдесят годков, как по нем таскаюсь. А вы-то, барин, молоды, хороши собою, сокол настоящий; ну жаль вас, право, жаль!
— Вот тебе у черта не просил жалости, — отвечал ему с гневом Громов, — отстань от меня, седая голова, или я тебе задам такого туза, что ты разве на том свете пробудишься.
Старик захохотал громко, отойдя от взбешенного молодого человека; последний, как увидел, что его угрозы возбудили только смех, кинулся было на него с поднятою рукою. Старик нисколько не изменился, но сильною мышцею удержал руку Громова.
— И, полно, барин, сердиться! — сказал он ему прежним насмешливым тоном. — Признайся-ка лучше, ведь барышня наша хороша, а? что, не правда ли, хороша?
Громов весь вспыхнул; он не знал, что отвечать; он не понимал, как старик, которого он никогда не видывал, мог угадать его тайну; он удивлялся также силе, с коею он остановил его удар, и чувствовал еще отпечатки пальцев, сжавших его правую руку.
— Да скажи мне, кто ты? — произнес он наконец с удивлением. — Черт, что ли? Кто тебе сказал, что я люблю..? Да что с тобою говорить? Врешь, старый сумасброд! — и Громов быстрыми шагами и в сильном волнении пошел от него.
— Постой, постой, барин! — кричал ему вслед старик. — Постой, не то будешь сам после каяться.
Громов обернулся.
— Я не черт или, по крайней мере, не сущий черт, — продолжал старик, — а коновал при конном заводе его высокоблагородия Петра Алексеича. Зовут меня Еремеем. В селе нашем многие почитают меня колдуном, а это оттого, что я их умнее. Я знаю, барин, зачем ты к нам так часто стал жаловать. Я это угадал. Что же ты покраснел? Ну, ведь барышня наша настоящая малина! Да вы, молодые люди, не послушаетесь советов старика. А мы кое в чем могли бы и услужить. Прощайте, барин!
Старик, кивнув головою, обернулся и пошел назад. Громов побежал за ним и остановил его за руку.
— В чем, как можешь ты мне услужить? — спросил он его торопливо. — Ну, говори же!
Но Еремей махнул рукою.
— Нет, барин, — сказал он, — я старый сумасброд, ты меня одним тузом отправишь на тот свет к Иуде на поклон; где мне? что могу я?
Громов просил его, предлагал ему деньги, но все было тщетно; Еремей объявил ему только, что он, может быть, когда-нибудь откроет ему средство, коим он успокоит свою страсть.
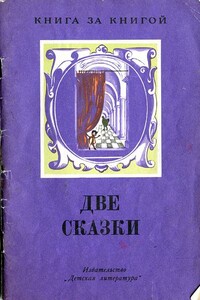
Главный герой книги, а вместе с ним и автор совершают увлекательное путешествие в странный и пугающий механический мир музыкальной шкатулки.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Мороз Иванович» – мудрая сказка о том, что труд и доброта всегда вознаграждаются, а лень и равнодушие ни к чему хорошему не приводят.

«Мне давно уже хотелось посмотреть на жизнь с исключительной точки зрения двух классов людей, присутствующих решительным минутам нашего существования: врача и гробовщика...».

«Долго любовалась Лидинька, смотря на свои серебряные рублики; когда же светило солнышко в окошко прямо на рублики, и они горели, как в огне…».

Ботанический эксперимент профессора Иванова перевернул всю экологию. Рассказ опубликован под рубрикой «Фантасты от 12 до 15».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Зачастую «сейчас» и «тогда», «там» и «здесь» так тесно переплетены, что их границы трудно различимы. В книге «Ахматова в моем зеркале» эти границы стираются окончательно. Великая и загадочная муза русской поэзии Анна Ахматова появляется в зеркале рассказчицы как ее собственное отражение. В действительности образ поэтессы в зеркале героини – не что иное, как декорация, необходимая ей для того, чтобы выговориться. В то же время зеркало – случайная трибуна для русской поэтессы. Две женщины сближаются. Беседуют.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
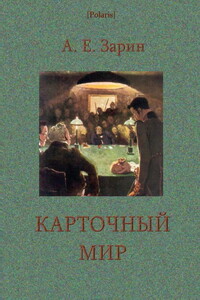
Фантастическая история о том, как переодетый черт посетил игорный дом в Петербурге, а также о невероятной удаче бедного художника Виталина.Повесть «Карточный мир» принадлежит перу А. Зарина (1862-1929) — известного в свое время прозаика и журналиста, автора многочисленных бытовых, исторических и детективных романов.
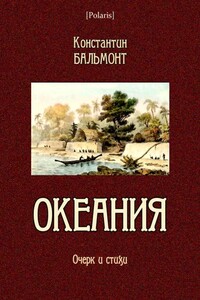
В книгу вошел не переиздававшийся очерк К. Бальмонта «Океания», стихотворения, навеянные путешествием поэта по Океании в 1912 г. и поэтические обработки легенд Океании из сборника «Гимны, песни и замыслы древних».
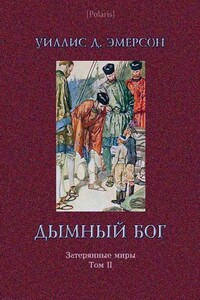
Впервые на русском языке — одно из самых знаменитых фантастических произведений на тему «полой Земли» и тайн ледяной Арктики, «Дымный Бог» американского писателя, предпринимателя и афериста Уиллиса Эмерсона.Судьба повести сложилась неожиданно: фантазия Эмерсона была поднята на щит современными искателями Агартхи и подземных баз НЛО…Книга «Дымный Бог» продолжает в серии «Polaris» ряд публикаций произведений, которые относятся к жанру «затерянных миров» — старому и вечно новому жанру фантастической и приключенческой литературы.

Четверо ученых, цвет европейской науки, отправляются в смелую экспедицию… Их путь лежит в глубь мрачных болот Бельгийского Конго, в неизведанный край, где были найдены живые образцы давно вымерших повсюду на Земле растений и моллюсков. Но экспедицию ждет трагический финал. На поиски пропавших ученых устремляется молодой путешественник и авантюрист Леон Беран. С какими неслыханными приключениями столкнется он в неведомых дебрях Африки?Захватывающий роман Р. Т. де Баржи достойно продолжает традиции «Затерянного мира» А. Конан Дойля.