Черная радуга - [10]
Он сразу ожесточился, подумав, каким презрением наполнилась бы Лиза, увидев его компанию. «Ты пьянствуешь со всякими подонками…» — сказала бы она. «Да ты-то чем лучше?! — прорычал бы Семен в вязкую темноту. — Что ты, придет время, сдохнешь, что они, — так какая же между вами разница? Скажешь, жили по-разному? Ну, жили. Вот и живите, а смерть все равно всех уравняет. Сильно чистенькие стали — простому человеку к вам и не подойти. Как же! У вас, Лизавета, своя, чистоплюйная компания. Ну да ладно, мы и в своей не пропадем, лишь бы вы нас не трогали!»
Но потаенным разумом Семен понимал, что мир вокруг него всегда трогал и будет трогать тихий закуток его успокоения, и он ожесточался против этого враждебного мира всеми силами души.
Сигарета догорала, и Семен уходил в спальню. Ненарушимый мирный покой царил в этом тихом убежище, и только один он понимал, как зыбок, как призрачен этот покой.
«Может ли кто-нибудь в целом свете залезть в мою бедную голову и снять эту тупую боль в виске? — думал он. — Снять и утихомирить чувство невыносимой тоски и беспросветного отчаяния, которое не дает мне жить, как живут все остальные люди?»
Семен ложился, поворачивался набок и съеживался в комочек, как делал когда-то в далеком полузабытом детстве. Смутно припоминался ему ласковый голос матери, утешающий его после очередной бессмысленной и жестокой драки с ребятами, в которую он влезал, словно притянутый невидимым магнитом. Вот он лежит, хлюпая разбитым носом, на деревянном топчане во дворе их барака; лежит, подтянув к подбородку колени, и давится холодными бессильными слезами. А мать хлопочет рядом, у мангалки, готовя нехитрый ужин, и говорит ему что-то мягкое, и подходит к Семену, и кладет ему на голову натруженную ладонь. И стихает боль, и уходит одиночество.
Но уж давно нет на этом неласковом свете ни его всегда занятого, угрюмого отца, ни его тихой матери, и некому стало облегчить все нарастающую внутри Семеновой головы боль.
«Ах, Лиза, Лиза… Выпить бы, выпить…»
Опять вставала над ним радуга дней его жизни. Черная радуга… Черная…
Словно огромный мутный водоворот день за днем кружил Углова, приближая его к страшному провалу огромной воронки. Было время, когда ленивая тяжелая сила медленно вращала его по периферии гигантского волчка. Тогда ему казалось, что никакого конца этого вращения не предвидится, что успеет пройти вся его жизнь, прежде чем он приблизится к крутой, отсвечивающей зеркальными бликами пропасти, что сил, отпущенных ему природой, хватит, чтобы противостоять ускорению этого вращения, нарастающего к эпицентру пучины.
Но чудовищная инерция движения оказалась сильнее его ничтожных усилий, да и, видя безнадежность борьбы, Семен бросил сопротивляться ленивому и медлительному насилию. Сладко было подчиниться убаюкивающему, ласковому движению, и конец его пьяной жизни был, казалось, еще так далек, и глаза Углова, не желающие видеть неизбежного, не видели его.
Медленными, мелкими, сторожкими шажками вошел алкоголь в Семенову судьбу. Первые изломы были невелики. Легкие стычки с женой, перманентное отсутствие карманных денег, утренние головные боли — рядовое дело, кто этим не страдал, — успокаивал себя Углов.
Но вращение нарастало. Из средства спиртное понемногу превращалось в цель.
«Чего-то я не понимаю», — мучительно думал Углов. А не понимал он простых с виду вещей, которые на поверку оказывались сложными. Сложными, потому что требовался не ум, не большая сообразительность, а качество иное, подчас более важное, чем тот же самый ум. Ибо мало оказывалось только понимать, и не в понимании лежала главная заковыка жизни, а лежала она в необходимости действия, волевого усилия.
Мир вращался вокруг железного стержня воли. Никакой ум ничего не стоил без нее. Умных людей было много. Углову иногда казалось, что дураки на свете и вовсе перевелись: кого ни послушай — государство можно ему под начало доверить. Но как дело доходило до реальных поступков, все они оказывались мелкими, грошовыми, подчас безумными. Почему? А потому, что воли требовал умный и смелый поступок! Углов очень убедился в этом на собственном примере. Ему не хватало силы ни в чем отказать. Дефицит воли оказывался непоправим. Без ума еще можно жить — без воли только существовать. Подтверждалось это ежедневно.
С самого раннего детства Углов купался в потоке правильных слов. Сначала их внушала Семке пионервожатая, потом эстафету перехватил техникумовский комсорг, дальше парторг стройуправления время от времени напоминал Семену Петровичу о том, что такое хорошо и что такое плохо. Правильные слова звучали из репродукторов, с экранов телевизоров, заполняли полосы газет, — кажется, должны бы они были стать плотью и кровью любого внимающего им человека.
И точно, были такие люди. И Семену они встречались. Для них слова, сошедшие с высоких трибун, были не столько словами, сколько воздухом, которым они дышали, сколько мыслями и чувствами, которыми они жили. И Углов поначалу думал, что легко вольется в их могучий и светлый поток.
Ан нет, скоро сказка сказывалась, да не скоро дело делалось! Оказалось, что слушать те высокие слова или повторять их куда спокойней, чем по ним жить. Жить по ним оказывалось непросто и даже не вполне безопасно. Ибо слова те требовали именно поступков. За святые слова нужно не прятаться, а в бой за них идти — и в какой бой! Каждый услышанный Семеном призыв требовал действия — и вот тут-то без мужества и воли было никак не обойтись.
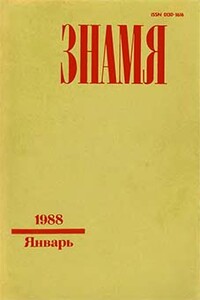
Володька Сагин побегал по старым знакомым, порыскал по берегам реки и набрёл на только что открывшийся пункт спасения утопающих. Это была манна небесная. Словно перст божий прямо указал на Сагина — быть тебе, парень, человеком особой судьбы и особого предназначения. Так стал Володька матросом-спасателем 2-го класса местного отделения спасения на водах, а попросту — Володькой-Осводом.

Виктор Николаевич Харченко родился в Ставропольском крае. Детство провел на Сахалине. Окончил Московский государственный педагогический институт имени Ленина. Работал учителем, журналистом, возглавлял общество книголюбов. Рассказы печатались в журналах: «Сельская молодежь», «Крестьянка», «Аврора», «Нева» и других. «На реке черемуховых облаков» — первая книга Виктора Харченко.

На пути к мечте герой преодолевает пять континентов: обучается в джунглях, выживает в Африке, влюбляется в Бразилии. И повсюду его преследует пугающий демон. Книга написана в традициях магического реализма, ломая ощущение времени. Эта история вдохновляет на приключения и побуждает верить в себя.

Прогрессивный индийский прозаик известен советскому читателю книгами «Гнев всевышнего» и «Окна отчего дома». Последний его роман продолжает развитие темы эмансипации индийской женщины. Героиня романа Басанти, стремясь к самоутверждению и личной свободе, бросает вызов косным традициям и многовековым устоям, которые регламентируют жизнь индийского общества, и завоевывает право самостоятельно распоряжаться собственной судьбой.

Вторая часть романа "Мне бы в небо" посвящена возвращению домой. Аврора, после встречи с людьми, живущими на берегу моря и занявшими в её сердце особенный уголок, возвращается туда, где "не видно звёзд", в большой город В.. Там главную героиню ждёт горячо и преданно любящий её Гай, работа в издательстве, недописанная книга. Аврора не без труда вливается в свою прежнюю жизнь, но временами отдаётся воспоминаниям о шуме морских волн и о тех чувствах, которые она испытала рядом с Францем... В эти моменты она даже представить не может, насколько близка их следующая встреча.

Каково быть дочкой самой богатой женщины в Чикаго 80-х, с детской открытостью расскажет Беттина. Шикарные вечеринки, брендовые платья и сомнительные методы воспитания – у ее взбалмошной матери имелись свои представления о том, чему учить дочь. А Беттина готова была осуществить любую материнскую идею (даже сняться голой на рождественской открытке), только бы заслужить ее любовь.
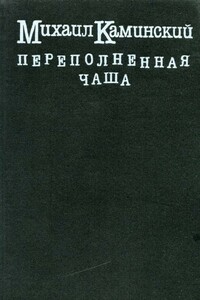
Посреди песенно-голубого Дуная, превратившегося ныне в «сточную канаву Европы», сел на мель теплоход с советскими туристами. И прежде чем ему снова удалось тронуться в путь, на борту разыгралось действие, которое в одинаковой степени можно назвать и драмой, и комедией. Об этом повесть «Немного смешно и довольно грустно». В другой повести — «Грация, или Период полураспада» автор обращается к жаркому лету 1986 года, когда еще не осознанная до конца чернобыльская трагедия уже влилась в судьбы людей. Кроме этих двух повестей, в сборник вошли рассказы, которые «смотрят» в наше, время с тревогой и улыбкой, иногда с вопросом и часто — с надеждой.