Человек в пейзаже - [13]
- Что же все-таки Сезанн? - вдруг отчетливо сказал я, удивившись металлическому своему голосу.
- А что Сезанн? Ничего себе Сезанн. Никогда нормальным человеком и не был. Вы все равно ничего не можете понять в живописи. Так что и не будем. Возьмем художника слова... Кто был наиболее близок к живописи в слове?
- Гоголь. - Тут я не сомневался.
- Правильно. А в живописи ничего не понимал... Ну и что с ним дальше-то было? Ясно? То же самое. Он истощил слой реальности, отпущенный ему господом для отображения, двинулся поперек слоя и вышел за пределы изображения. Там начинается другое - там вера. Да какая же вера у кроманьонца, когда он поклонялся тому, что видел? Там, где вера, там уже нет художника. Художник не может этого понять, потому что он еще и наркоман, потому что искусство не только образ, но и способ жизни... Нам, не гениям, в-се что-то мешает стать гениями: лень, косность, общество, грехи... - и мы никак не можем допустить, что это инстинкт, страх гибели я жажда .жизни нам мешают. Мы подсознательно боимся вывалиться из слоя реальности, мы хотим остаться живы. Но мы этого не поймем, потому что никогда не согласимся с тем, что мы не гении. Нам помешали, и только. Кризис художника - это не обстоятельства. Они всегда тут как тут, чтобы свернуть с дороги. Кризис в том, что ты подошел к краю слоя, в котором только и может осуществляться изображение, и теперь хочешь окрасить невидимые предметы в видимые цвета. И ничьи советы и рецепты не помогут, никакая схема, никакой подвиг: все легче, чем продолжать писать жизнь, только что казавшуюся живой и изобразимой, да и бывшую живой, а для кого-то так и оставшуюся навсегда живой, потому что он и не претендовал. Легче не пить, не курить, воздержаться от баб, легче все то, от чего не в силах отказаться другие люди, чем написать следующее за тем, что уже изображено. Он нам нарисовал пейзаж и нас нарисовал в нем, но не нам понять, как он это сумел сделать. Гений движется с космической скоростью в своем постижении и прорывает изображение. Искренность его недоумения и отчаяния равняется лишь постигнувшей его слепоте или немоте. Догадка об устройстве мира если не сведет с ума, то лишит дара любой речи. Судьба гения - это космическая катастрофа не в том смысле, что нам его в таких масштабах жаль или что это на нас космически же отразится, не в том смысле, что бы он нам еще преподнес хорошего, кабы не сгорел в более плотных слоях, а в том, что у них общая с космосом природа. Все они взорвались и рассеялись пылью, как вот-вот рванет наш шарик. Человечество приблизилось к того же масштаба катастрофе, какую пережил каждый гений. Только художник вываливался сквозь холст, а эти за саму раму, люди истощают пейзаж по самой поверхности слоя. Нам было сделано все, чтобы мы жили и прожили. Ни более и ни далее. Далее смерть. Сначала смерть того, что мы прожили, потом и нас самих. Всего было столько, сколько надо. Значит, не больше, чем надо. Не так много. Столько. Запаса обольщения в том числе. Господи, когда же они поймут, что кончилось - это кончилось? Нету больше. Не-ту! Откуда я вам возьму, когда нету! кричал на меня Павел Петрович. - Богом сосчитано до одного. Дальше ревизор. К нам едет ревизор! А ревизор-то - дьявол.
Мощность этой идеи окончательно сразила меня, хотя надо сказать, что и бутылку мы прикончили.
- В дьявола я не верю, - вдруг воспротивился я.
- То есть как?! - воскликнули Павел Петрович с неведомо откуда слетевшим к нам Семионом.
- То есть в творца, в Христа... - залепетал я, зажатый двумя мудрецами. - Верю как в реальность, что они были... есть... а что дьявол так же есть, как они, - нет.
- Он не верит... - испуганно прошептал Семион Павлу Петровичу. - Во что же он тогда верит?!
- Слушай его, слушай, - сказал Павел Петрович.
- Да ведь весь воздух кишит?.. - И Семион, как всполошенный петух, взмахнул рукавами, обводя доставшееся нам здесь пространство. Я отшатнулся, Павел Петрович предательски согласно кивал.
- Чем кишит? - разозлился я.
- Невидимыми существами! - И он заозирался будто в страхе.
- И в тот свет - не верю! - уперся .я.
- То есть как?! - Семион, казалось, лишился дара речи.
Павел Петрович не без интереса на. нас поглядывал.
- А так, - сказал я зло.
- Так ведь раз есть свет этот, - сказал Семион голосом вдруг мягким и вкрадчивым, - так есть и тот...
- Слушай его, слушай, - с удовольствием поддержал Павел Петрович.
- Как магнит не разрубишь пополам, - сказал Семион.
- Как свет и тьма! - воскликнул Павел Петрович.
- Как жизнь и смерть! - заиграл желваками Семион.
Будто они меня приговорили и сейчас пришла пора моего заклания... Я плохо соображал, мне показалось, что они заговорили на каком-то умершем, пещерном языке. Слова их все висели в воздухе всей речью, как невидимый, прозрачный лист, как такое стекло между ними и мной, по которому стекает ливень, утолщая его, прозрачный, тягучий и волокнистый... То лицо Се-миона свирепело от ласки, то лицо Павла Петровича одухотворялось и сатанело, будто и по нему катились эти плачущие струи, как по стеклу, то лик его вдруг становился ничтожным, растворялся и размывался в этом потоке, проявляя вздернутость и вздорность антипрофиля императора Павла... Тогда тусклеющие его глазки особенно наливались умом, как безумием, и Се-миона снова как не бывало...
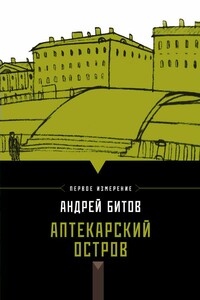
«Хорошо бы начать книгу, которую надо писать всю жизнь», — написал автор в 1960 году, а в 1996 году осознал, что эта книга уже написана, и она сложилась в «Империю в четырех измерениях». Каждое «измерение» — самостоятельная книга, но вместе они — цепь из двенадцати звеньев (по три текста в каждом томе). Связаны они не только автором, но временем и местом: «Первое измерение» это 1960-е годы, «Второе» — 1970-е, «Третье» — 1980-е, «Четвертое» — 1990-е.Первое измерение — «Аптекарский остров» дань малой родине писателя, Аптекарскому острову в Петербурге, именно отсюда он отсчитывает свои первые воспоминания, от первой блокадной зимы.«Аптекарский остров» — это одноименный цикл рассказов; «Дачная местность (Дубль)» — сложное целое: текст и рефлексия по поводу его написания; роман «Улетающий Монахов», герой которого проходит всю «эпопею мужских сезонов» — от мальчика до мужа.
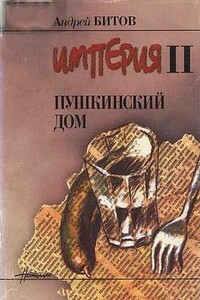
Роман «Пушкинский дом» критики называют «эпохальной книгой», классикой русской литературы XX века. Законченный в 1971-м, он впервые увидел свет лишь в 1978-м — да и то не на родине писателя, а в США.А к российскому читателю впервые пришел только в 1989 году. И сразу стал культовой книгой целого поколения.
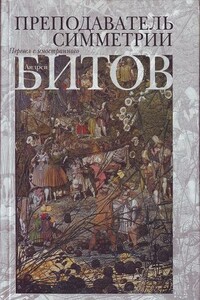
Новый роман Андрея Битова состоит из нескольких глав, каждая из которых может быть прочитана как отдельное произведение. Эти тексты написал неизвестный иностранный автор Э. Тайрд-Боффин о еще менее известном авторе Урбино Ваноски, а Битов, воспроизводя по памяти давно потерянную книгу, просто «перевел ее как переводную картинку».Сам Битов считает: «Читатель волен отдать предпочтение тому или иному рассказу, но если он осилит все подряд и расслышит эхо, распространяющееся от предыдущему к следующему и от каждого к каждому, то он обнаружит и источник его, то есть прочтет и сам роман, а не набор историй».

Роман-странствие «Оглашенные» писался двадцать лет (начатый в начале 70-х и законченный в 90-х). По признанию автора, «в этой книге ничего не придумано, кроме автора». Это пазл, сложенный из всех жанров, испробованных автором в трех предыдущих измерениях.Автор знакомит читателя с главными солдатами Империи: биологом-этологом Доктором Д., предлагающем взглянуть на венец природы глазами других живых существ («Птицы, или Новые сведения о человеке»), и художником-реставратором Павлом Петровичем, ищущем свою точку на картине Творца («Человек в пейзаже»)

В «Нулевой том» вошли ранние, первые произведения Андрея Битова: повести «Одна страна» и «Путешествие к другу детства», рассказы (от коротких, времен Литературного объединения Ленинградского горного института, что посещал автор, до первого самостоятельного сборника), первый роман «Он – это я» и первые стихи.

«Империя в четырех измерениях» – это книга об «Империи», которой больше нет ни на одной карте. Андрей Битов путешествовал по провинциям СССР в поиске новых пространств и культур: Армения, Грузия, Башкирия, Узбекистан… Повести «Колесо», «Наш человек в Хиве, или Обоснованная ревность» и циклы «Уроки Армении», «Выбор натуры. Грузинской альбом» – это история народов, история веры и войн, это и современные автору события, ставшие теперь историей Империи.«Я вглядывался в кривую финскую березку, вмерзшую в болото родного Токсова, чтобы вызвать в себе опьянение весенним грузинским городком Сигнахи; и топтал альпийские луга, чтобы утолить тоску по тому же болоту в Токсове».

Самое завораживающее в этой книге — задача, которую поставил перед собой автор: разгадать тайну смерти. Узнать, что ожидает каждого из нас за тем пределом, что обозначен прекращением дыхания и сердцебиения. Нужно обладать отвагой дебютанта, чтобы отважиться на постижение этой самой мучительной тайны. Талантливый автор романа `После запятой` — дебютант. И его смелость неофита — читатель сам убедится — оправдывает себя. Пусть на многие вопросы ответы так и не найдены — зато читатель приобщается к тайне бьющей вокруг нас живой жизни. Если я и вправду умерла, то кто же будет стирать всю эту одежду? Наверное, ее выбросят.

Однажды утром Майя решается на отчаянный поступок: идет к директору школы и обвиняет своего парня в насилии. Решение дается ей нелегко, она понимает — не все поверят, что Майк, звезда школьной команды по бегу, золотой мальчик, способен на такое. Ее подруга, феминистка-активистка, считает, что нужно бороться за справедливость, и берется организовать акцию протеста, которая в итоге оборачивается мероприятием, не имеющим отношения к проблеме Майи. Вместе девушки пытаются разобраться в себе, в том, кто они на самом деле: сильные личности, точно знающие, чего хотят и чего добиваются, или жертвы, не способные справиться с грузом ответственности, возложенным на них родителями, обществом и ими самими.

Жизнь в стране 404 всё больше становится похожей на сюрреалистический кошмар. Марго, неравнодушная активная женщина, наблюдает, как по разным причинам уезжают из страны её родственники и друзья, и пытается найти в прошлом истоки и причины сегодняшних событий. Калейдоскоп наблюдений превратился в этот сборник рассказов, в каждом из которых — целая жизнь.

История о девушке, которая смогла изменить свою жизнь и полюбить вновь. От автора бестселлеров New York Times Стефани Эванович! После смерти мужа Холли осталась совсем одна, разбитая, несчастная и с устрашающей цифрой на весах. Но судьба – удивительная штука. Она сталкивает Холли с Логаном Монтгомери, персональным тренером голливудских звезд. Он предлагает девушке свою помощь. Теперь Холли предстоит долгая работа над собой, но она даже не представляет, чем обернется это знакомство на борту самолета.«Невероятно увлекательный дебютный роман Стефани Эванович завораживает своим остроумием, душевностью и оригинальностью… Уникальные персонажи, горячие сексуальные сцены и эмоционально насыщенная история создают чудесную жемчужину». – Publishers Weekly «Соблазнительно, умно и сексуально!» – Susan Anderson, New York Times bestselling author of That Thing Called Love «Отличный дебют Стефани Эванович.

Действие романа разворачивается во время оккупации Греции немецкими и итальянскими войсками в провинциальном городке Бастион. Главная героиня книги – девушка Рарау. Еще до оккупации ее отец ушел на Албанский фронт, оставив жену и троих детей – Рарау и двух ее братьев. В стране начинается голод, и, чтобы спасти детей, мать Рарау становится любовницей итальянского офицера. С освобождением страны всех женщин и семьи, которые принимали у себя в домах врагов родины, записывают в предатели и провозят по всему городу в грузовике в знак публичного унижения.

Джозеф Хансен (1923–2004) — крупнейший американский писатель, автор более 40 книг, долгие годы преподававший художественную литературу в Лос-анджелесском университете. В США и Великобритании известность ему принесла серия популярных детективных романов, главный герой которых — частный детектив Дэйв Брандсеттер. Роман «Год Иова», согласно отзывам большинства критиков, является лучшим произведением Хансена. «Год Иова» — 12 месяцев на рубеже 1980-х годов. Быт голливудского актера-гея Оливера Джуита. Ему за 50, у него очаровательный молодой любовник Билл, который, кажется, больше любит образ, созданный Оливером на экране, чем его самого.