Чеканка - [64]
Еще один поворот: и к моим услугам все великолепие одной из самых прямых и быстрых дорог Англии. Дым из выхлопной трубы вьется позади, как длинный провод. Моя скорость быстро обрывает его, и я слышу лишь вой ветра, который моя голова, бьющаяся об него, разделяет и отгоняет в стороны. По мере прибавления скорости этот вой поднимается до визга: а прохладный воздух струится, как два потока ледяной воды, мне в глаза, и передо мной все растворяется. Я щурюсь изо всех сил и сосредоточиваю взгляд на две сотни ярдов впереди, среди пустынной мозаики волн асфальта, посыпанного гравием.
Как стрелы, крошечные мошки жалят мне щеки: а иногда что-то более тяжелое, муха или майский жук, врезается в лицо или в губы, как шальная пуля. Взгляд на спидометр: семьдесят восемь. Боанергес разогревается. Я тяну дроссель, пока он не откроется, взбираясь на уклон, и мы летим через канавы, вверх-вниз, вверх-вниз, по серпантину дороги: тяжелая машина, которая швыряет сама себя, как реактивный снаряд, стрекочет колесами в воздухе на каждом толчке подъема, чтобы со встряской приземлиться, и ведущая цепь так вырывается, что мой позвоночник содрогается, как челюсть.
Однажды мы летели так сквозь вечерний свет, слева желтело солнце, и вдруг огромная тень взревела над головой. Истребитель «бристоль», с Беленых Вилл, нашего соседнего аэродрома, заложил рядом резкий вираж. Я на миг сбавил скорость, чтобы помахать ему, и воздушный поток от моего движения подхватил мою руку и локоть в обратном направлении, как поднятый цеп. Пилот показал на дорогу к Линкольну. Я устроился покрепче в седле, заложил уши и отправился за ним, как собака за зайцем. Мы быстро двигались рядом, пока его побуждение снизойти до моего уровня не исчерпало себя.
Следующая миля будет трудной. Я вжал ноги в педали, вытянул руки и стиснул коленями корпус, резиновые накладки на его топливном баке вспучились под моими бедрами. Над первой кротовиной Боанергес удивленно взвизгнул, его крыло опустилось, взвизгнув по шине. Следующие десять секунд на подскоках я цеплялся, сжимая рукой в перчатке рукоятку дросселя, чтобы ни одна кочка не могла закрыть его и испортить нам скорость. Потом мотоцикл швырнуло в сторону, на трех длинных впадинах, он делал головокружительные повороты, виляя хвостом, все тридцать ужасных ярдов. Сцепление разжалось, двигатель несся свободно: Боа запнулся и выпрямился с дрожью, как подобает истинному «броу».
Плохая дорога кончилась, и по новому пути мы летим, как птица. Голову откидывает ветром, так что уши изменяют мне, и кажется, что мы мчимся беззвучным вихрем среди жнивья, позолоченного солнцем. Я осмелился на подъеме неуловимо замедлить движение и искоса взглянуть в небо. Там был «биф[47]», за двести с лишним ярдов. Сыграем? Почему бы нет? Я замедлил до девяноста: сделал ему знак рукой, чтобы он перегнал меня. Сбавил еще десять; приподнялся и прогрохотал мимо. Его пассажир, в шлеме и очках, усмехаясь, высунулся из кабины, чтобы проводить меня соленым приветствием ВВС: «давай выше!»
Они надеялись, что я — мелкая случайность, и просто отдаю им должное. Снова открылся дроссель. Боа крадется ровно, в пятидесяти футах под ними: поравнялся с ними: двинулся вперед по чистой, пустынной местности. Приближающаяся автомашина чуть не нырнула в канаву при виде наших гонок. «Биф» маячил среди деревьев и телеграфных столбов, а я, мчащееся пятно, всего в восьмидесяти ярдах впереди. Однако я опережал его, стойко опережал: может быть, шел на пять миль в час быстрее. Моя левая рука опустилась, чтобы дать машине пару лишних порций масла, из опасения, что перегреется что-нибудь: но с таким двухцилиндровым верхним движком от Джапа можно спокойно сгонять на Луну и обратно.
Мы почти уже подъехали к селению. За длинную милю до первых домов я закончил гонки и спустился к перекрестку у больницы. «Биф» поравнялся со мной, заложил вираж, набрал высоту и повернул обратно, и оттуда махали мне, пока я был в поле зрения. Здесь было четырнадцать миль от лагеря: и пятнадцать минут с тех пор, как я оставил Тага и Дасти у дверей.
Я снова выжал сцепление и легко спустил Боанергеса с холма, вдоль трамвайных путей, по грязным улицам, и вверх, к одинокому кафедральному собору, стоявшему в холодном совершенстве над низменными окрестностями. Линкольн[48] не несет послания о милости. Наш Бог — ревнивый Бог, и все, что может предложить человек, падет, в презренном недостатке достоинства, в глазах святого Гуго и его ангелов.
Ремигий, приземистый старый Ремигий глядит с большей благосклонностью на нас с Боанергесом. Я поставил это стальное чудо силы и скорости у его западной двери и вошел: и нашел там органиста, репетирующего что-то медленное и ритмичное, как таблица умножения, только в нотном виде. Изъеденное, неудовлетворительное и неудовлетворенное кружево хоров и перемычек потонуло в главном звуке. Его преизбыточность задумчиво струилась мне в уши.
К тому времени мой желудок позабыл об обеде, глаза горели и слезились. Снова на улицу, чтобы промыть голову под колонкой «Белого оленя»[49] во дворе. Чашка настоящего шоколада и кекс в чайной: и мы с Боа едем по ньюаркской дороге, в последний час светлого времени суток. Он легко идет на сорока пяти и, ревя изо всех сил, переваливает за сотню. Норовистый мотоцикл голубых кровей лучше всех верховых животных на свете, потому что логически расширяет наши возможности и несет в себе намек, провокацию превзойти их, своим приятным, неутомимым, ровным движением. Боа любит меня, и потому дарит мне на пять миль больше скорости, чем получил бы от него чужой.
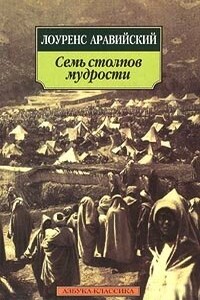
В литературном отношении воспоминания Лоуренса представляют блестящее и стилистически безупречное произведение, ставящее своей целью в киплинговском духе осветить романтику и героику колониальной войны на Востоке и «бремени белого человека». От произведенных автором сокращений оно ничуть не утратило своих литературных достоинств. Лоуренс дает не только исчерпывающую картину «восстания арабов», но и общее описание боевых действий на Ближневосточном театре Первой Мировой войны, в Палестине и Месопотамии.
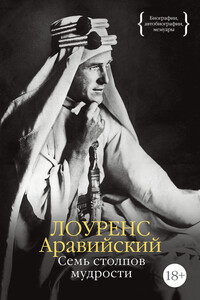
Томас Эдвард Лоуренс, более известный как Лоуренс Аравийский, – знаменитый английский разведчик, партизан, политик, писатель, переводчик. Его яркий и необычный автобиографический роман «Семь столпов мудрости» до сих пор является одной из самых издаваемых и читаемых книг в мире. (По его мотивам был снят легендарный фильм «Лоуренс Аравийский», являющийся одним из шедевров мирового кинематографа.) В этой книге причудливо сочетаются средневековый, экзотический мир арабов, которые почитали Лоуренса чуть ли не как Мессию, и реалии западного мира, бесцеремонно вторгшегося в начале прошлого века на Ближний Восток.

На всех фотографиях он выглядит всегда одинаково: гладко причесанный, в пенсне, с небольшой щеткой усиков и застывшей в уголках тонких губ презрительной улыбкой – похожий скорее на школьного учителя, нежели на палача. На протяжении всей своей жизни он демонстрировал поразительную изворотливость и дипломатическое коварство, которые позволяли делать ему карьеру. Его возвышение в Третьем рейхе не было стечением случайных обстоятельств. Гиммлер осознанно стремился стать «великим инквизитором». В данной книге речь пойдет отнюдь не о том, какие преступления совершил Гиммлер.

В этой книге нет вымысла. Все в ней основано на подлинных фактах и событиях. Рассказывая о своей жизни и своем окружении, я, естественно, описывала все так, как оно мне запомнилось и запечатлелось в моем сознании, не стремясь рассказать обо всем – это было бы невозможно, да и ненужно. Что касается объективных условий существования, отразившихся в этой книге, то каждый читатель сможет, наверно, мысленно дополнить мое скупое повествование своим собственным жизненным опытом и знанием исторических фактов.Второе издание.

Очерк этот писался в 1970-е годы, когда было еще очень мало материалов о жизни и творчестве матери Марии. В моем распоряжении было два сборника ее стихов, подаренные мне А. В. Ведерниковым (Мать Мария. Стихотворения, поэмы, мистерии. Воспоминания об аресте и лагере в Равенсбрюк. – Париж, 1947; Мать Мария. Стихи. – Париж, 1949). Журналы «Путь» и «Новый град» доставал о. Александр Мень.Я старалась проследить путь м. Марии через ее стихи и статьи. Много цитировала, может быть, сверх меры, потому что хотела дать читателю услышать как можно более живой голос м.
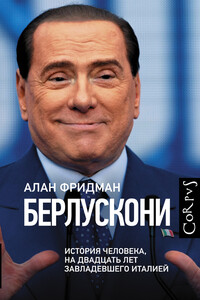
Алан Фридман рассказывает историю жизни миллиардера, магната, политика, который двадцать лет практически руководил Италией. Собирая материал для биографии Берлускони, Фридман полтора года тесно общался со своим героем, сделал серию видеоинтервью. О чем-то Берлускони умалчивает, что-то пытается представить в более выгодном для себя свете, однако факты часто говорят сами за себя. Начинал певцом на круизных лайнерах, стал риелтором, потом медиамагнатом, а затем человеком, двадцать лет определявшим политику Италии.

«История» Г. А. Калиняка – настоящая энциклопедия жизни простого советского человека. Записки рабочего ленинградского завода «Электросила» охватывают почти все время существования СССР: от Гражданской войны до горбачевской перестройки.Судьба Георгия Александровича Калиняка сложилась очень непросто: с юности она бросала его из конца в конец взбаламученной революцией державы; он голодал, бродяжничал, работал на нэпмана, пока, наконец, не занял достойное место в рядах рабочего класса завода, которому оставался верен всю жизнь.В рядах сначала 3-й дивизии народного ополчения, а затем 63-й гвардейской стрелковой дивизии он прошел войну почти с самого первого и до последнего ее дня: пережил блокаду, сражался на Невском пятачке, был четырежды ранен.Мемуары Г.

Русский серебряный век, славный век расцвета искусств, глоток свободы накануне удушья… А какие тогда были женщины! Красота, одаренность, дерзость, непредсказуемость! Их вы встретите на страницах этой книги — Людмилу Вилькину и Нину Покровскую, Надежду Львову и Аделину Адалис, Зинаиду Гиппиус и Черубину де Габриак, Марину Цветаеву и Анну Ахматову, Софью Волконскую и Ларису Рейснер. Инессу Арманд и Майю Кудашеву-Роллан, Саломею Андронникову и Марию Андрееву, Лилю Брик, Ариадну Скрябину, Марию Скобцеву… Они были творцы и музы и героини…Что за характеры! Среди эпитетов в их описаниях и в их самоопределениях то и дело мелькает одно нежданное слово — стальные.