Чеканка - [4]
Неповторимая запущенность берегов Пинна казалась тоже запретной для служивых: там, в ивах, пел хор птиц. С высокого шпиля, который черным цветом врезался в небо, на гребне, за узкими крышами лагеря, падал, четверть за четвертью, вестминстерский перезвон трубчатых колоколов. Мягкий речной воздух добавлял этому звону — не эхо, но дополнительную торжественность и сладость — и разносил его далеко, только расстояние казалось меньше, посеребренное медленно наступающим вечером и туманом, собиравшимся с воды. Тяжелый грохот электричек и трамваев за забором подчеркивал намеренную отдаленность множества людей, собранных здесь.
Когда наступило время чая, футболисты устали и наконец прекратили игру. Медленно туман забирался в низины и медленно полз по траве уклона, пока огни лагеря не зажглись прямо в этом туманном море.
4. Страх
После заката дорожки лагеря заполнились людьми, все они казались друзьями и обменивались непостижимыми франкмасонскими приветствиями. Я сторонился их, а также их столовой с ее ярким светом и гостеприимными запахами. Мысль о нашем бараке показалась мне убежищем. Я с радостью направился туда.
Когда я открыл дверь, длинная комната с висячими лампами действительно стала мне убежищем от ночи. Расцветка в ней была веселая: прежде всего, белые стены, разделенные пилястрами красного кирпича или тонкими стропилами, выкрашенными зеленым, они тянулись от бетонного пола между тесными рядами одинаковых кроватей с коричневыми одеялами. Но внутри не было никого, и потолок, казалось, глядит множеством глаз. У меня закружилась голова под этим взглядом, и я споткнулся на дорожке гладкого линолеума, черной тропой лежавшего на бетоне. Может быть, пол слегка ходил ходуном, как палуба? Или это у меня все плыло перед глазами в блестящей тишине, затоплявшей пустое помещение?
Без сил я прилег на выделенную мне кровать. Некоторое время со мной рядом лежал глубокий страх. Круглые лампы глядели не мигая; мои внешние измышления собрались к моей подушке и нашептывали в каждое ухо, что сейчас я пытаюсь предпринять тяжелейшее усилие в своей жизни. Может ли человек, который целые годы был закрыт наглухо, просеивая свое внутреннее «я» мучительное количество раз, чтобы сжать его мельчайшие частицы в переплет книги — может ли он вдруг закончить свою гражданскую войну и жить открытой жизнью, чтобы его мог прочесть кто угодно?
Случайности, достижения и сплетни (скрепленные в равных дозах моими пристрастными друзьями) выстроили мне такую раковину, которая подталкивала меня почти совсем забыть очертания червя, таившегося в ней. И вот я сбросил эту оболочку, все удобства и все, чем я владел, чтобы грубо погрузиться в общество грубых людей и найти себя на оставшиеся годы первозданной жизни. Сейчас страх говорил мне, что ничто из моего настоящего не переживет этого путешествия в неведомое.
Путешествия? Да, эта длинная комната, похожая на трюм, сохраняла резкий запах краски и внушала ощущение, что находишься между палубами. Колонны и затяжки ее темнеющей крыши делили ее на стойла, как на корабле, ожидающем к погрузке скотину. Ожидающем нас.
Мы медленно заходили, те, кто пришел со мной сегодня, пять или шесть, и лежали некоторое время на заправленных кроватях, подавленные незнакомым местом и тишиной; тишиной, которую еще больше подчеркивал слабый шум трамваев, ползущих снаружи по дороге за лагерем. Присутствие друг друга нас незаметно успокаивало.
В десять часов дверь распахнулась, и ворвался поток других, тех стажеров, которые были здесь несколько дней и обрели уже внешнюю уверенность. Они боролись с нервозностью с помощью шума, разговоров, звуков «Суэйни-ривер» на губной гармошке, борьбы и грубых шуток. Между внезапными аккордами какой-нибудь песни выпадали промежутки тишины, когда люди доверительно перешептывались. Потом снова разговоры, деланные смешки над плохой шуткой. Пока они спешно раздевались на ночь, запах тел соперничал с запахом пива и табака. Шутки становились все грубее: стягивание штанов, шлепки жесткими ладонями, неуклюжий бег с препятствиями через кровати, которые наклоняли или разворачивали. Мы, последние из пришедших, содрогались от мысли, как нам придется терпеть эту вольницу, если они решат принять в свою возню нас. Барак, наше убежище, стал нескромным, грубым, громогласным, немытым.
В десять пятнадцать гасят огни; и с их угасающими вспышками прекращается каждый звук. Тишина и страх вернулись ко мне. Белые окна пересекаются по диагонали светом от наружных ламп, который соперничает с ними в белизне. Внутри все охвачены забытьем первого сна, как зародыши в оболочке плода. Дух мой, наблюдая, медленно и осторожно поднимался, прокрадываясь в этот располосованный воздух, рассеянно изучая тела, вытянутые, как мумии, на узких кроватях. Первым уроком сборного пункта была наша отрешенность от внешней жизни. Эта вторая картина — наша одинаковость, тело к телу. Сколько еще душ скользили той ночью вдоль балок крыши и видели это? Снова моя душа, охваченная внезапной паникой, бежала в гроб своего тела. Любое укрытие лучше, чем пустота.
Тянулась ночь. Спящие, удовлетворив первую усталость, начали неловко ворочаться. Кто-то глухо бормотал в фальшивой жизни сна. Они стонали или медленно перекатывались в кроватях под металлический лязг проволочных матрасов. Если спишь в жесткой кровати, тело не может покоиться без вздохов. Возможно, все физическое существование для человека — усталая боль; только днем его упрямый бодрствующий дух этого не признает.
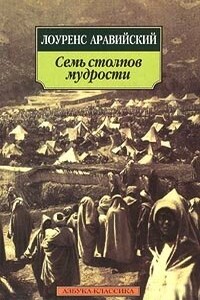
В литературном отношении воспоминания Лоуренса представляют блестящее и стилистически безупречное произведение, ставящее своей целью в киплинговском духе осветить романтику и героику колониальной войны на Востоке и «бремени белого человека». От произведенных автором сокращений оно ничуть не утратило своих литературных достоинств. Лоуренс дает не только исчерпывающую картину «восстания арабов», но и общее описание боевых действий на Ближневосточном театре Первой Мировой войны, в Палестине и Месопотамии.
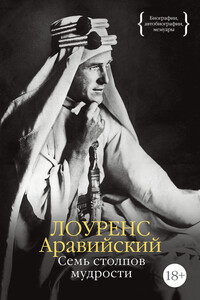
Томас Эдвард Лоуренс, более известный как Лоуренс Аравийский, – знаменитый английский разведчик, партизан, политик, писатель, переводчик. Его яркий и необычный автобиографический роман «Семь столпов мудрости» до сих пор является одной из самых издаваемых и читаемых книг в мире. (По его мотивам был снят легендарный фильм «Лоуренс Аравийский», являющийся одним из шедевров мирового кинематографа.) В этой книге причудливо сочетаются средневековый, экзотический мир арабов, которые почитали Лоуренса чуть ли не как Мессию, и реалии западного мира, бесцеремонно вторгшегося в начале прошлого века на Ближний Восток.

Эта книга – увлекательный рассказ о насыщенной, интересной жизни незаурядного человека в сложные времена застоя, катастрофы и возрождения российского государства, о его участии в исторических событиях, в культурной жизни страны, о встречах с известными людьми, о уже забываемых парадоксах быта… Но это не просто книга воспоминаний. В ней и яркие полемические рассуждения ученого по жгучим вопросам нашего бытия: причины социальных потрясений, выбор пути развития России, воспитание личности. Написанная легко, зачастую с иронией, она представляет несомненный интерес для читателей.В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.