Ч. Р. Метьюрин и его «Мельмот скиталец» - [47]
Некоторые мотивы, встречающиеся у Метьюрина, могли попадать в произведения Лермонтова через посредствующие литературные звенья, а не прямо из «Мельмота». Таков, например, мотив «оживающего портрета», возникший у Лермонтова, может быть, через посредство гоголевской повести [230] и в то же время широко распространенный в романтической западноевропейской беллетристике вообще. Столь же распространенной подробностью портрета были у романтиков обладавшие адским, нестерпимым, неестественным блеском глаза: поэтому трудно было бы считать, что, рассказывая о глазах портрета, висевшего в комнате Печорина («глаза, устремленные вперед, блистали тем страшным блеском, которым иногда блещут глаза сквозь прорези маски»), Лермонтов вспоминает «нестерпимый» блеск взоров Мельмота [231].
Слова Печорина в «Герое нашего времени» о женщине и цветке напомнили исследователям творчества Лермонтова сходные слова, обращенные Мельмотом к Иммали в главе XX: «Мне поручено попирать ногами и мять все цветы, расцветающие как на земле, так и в человеческой душе, гиацинты, сердца и всевозможные подобные им безделки, все, что попадается на моем пути» (ср. далее — авторское пояснение о Мельмоте: «Красота была для него цветком, на который он смотрел с презрением и прикасался к нему для того лишь, чтобы сгубить»). Сходные ситуации представляли и «Демон» [232] и «Герой нашего времени»; в последнем произведении мы читаем о Печорине: «А ведь есть необъятное наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся души! Она, как цветок, которого лучший аромат испаряется навстречу первому лучу солнца; его надо сорвать в эту минуту и, подышав им досыта, бросить на дороге, авось, кто-нибудь поднимет! Я чувствую в себе эту ненасытную жадность, поглощающую все, что встречается на пути» [233].
Увлеченным читателем «Мельмота Скитальца» был также Ф. М. Достоевский. Интерес к Мельмоту возник у писателя в его юные годы: своим товарищам по Инженерному училищу он горячо рекомендовал читать «мрачного фантастического» Метьюрина [234]. К произведениям Метьюрина Достоевский причислял также изданное в русском переводе в 1834 г. и приписанное его перу произведение Де Квинси «Исповедь англичанина, употреблявшего опиум; соч. Матюрена, автора Мельмота» [235], столь восхищавшее впоследствии И. С. Тургенева и А. И. Герцена.
Воздействие Метьюрина на творчество Достоевского безусловно было сильным и длительным, хотя попытки проследить конкретные проявления его в отдельных произведениях русского писателя представляются еще недостаточными [236]. Так, были сделаны усилия открыть подобные следы «Мельмота» в повести Достоевского «Хозяйка», осложненные посредствующим воздействием Гоголя, однако злобный смех после совершения преступления или нестерпимый блеск глаз и т. д., как уже отмечалось выше, представляют собою общее место в романтической беллетристике и не могут быть одним из обоснований сходства между Достоевским и Метьюрином [237]. Другие исследователи пытались подметить сходство между ситуациями, которые любил изображать Метьюрин, и теми, к которым чувствовал пристрастие Достоевский: перенапряжение чувств, моральную опустошенность, патологические страсти [238]. В этом смысле своего рода предчувствием манеры Достоевского считали историю Вальберга, как она изложена в «Мельмоте Скитальце» во вставной «Повести о семье Гусмана» [239]; подчеркивали также частый у Метьюрина символ «паука», нередкий и у Достоевского в сходных у обоих писателей функциях приложения этого символа к человеческим взаимоотношениям [240], к Метьюрину у Достоевского возводится даже резкое обличение католицизма [241].
Однажды, работая над черновыми набросками к роману «Бесы», Достоевский вспомнил Мельмота, когда в его творческом сознании начал складываться образ будущего Ставрогина. В записи Достоевского (где этот герой фигурирует еще под именем «князя») мы читаем: «Слава о нем в городе и везде (еще прежняя, отроческая) как о развратном, безобразном, нагло оскорбляющем человеке. Губернаторша считает его за Мельмота» [242]. Из окончательного печатного текста «Бесов» имя Мельмота в конце концов исчезло, и мы не знаем точно, о каких «мельмотических» чертах характера будущего Ставрогина могла здесь идти речь, но показательно все же, что «Мельмота» Метьюрина Достоевский хорошо помнил еще в начале 70-х годов. Некоторые исследователи утверждали, что «Мельмота» Достоевский вспоминал и в последующее десятилетие — вплоть до «Братьев Карамазовых» (1879–1880) и «Речи о Пушкине» (1881).
В «поэмке» Ивана Карамазова о Великом инквизиторе, рассказанной в грязном трактире, давно уже видят одну из вершин философской мысли Достоевского; в легенде затронуты центральные проблемы, волновавшие писателя, а к самому образу Великого инквизитора найдено был множество прототипов и литературных аналогий: вспоминались «Опыты» Монтеня, Вольтер, «Дон Карлос» Шиллера, «Легенда веков» В. Гюго, стихотворение Тютчева, «Каменный гость» Пушкина и т. д. За последнее время к этому перечню прибавился также «Мельмот» Метьюрина

Как будет выглядеть автобиография советского интеллектуала, если поместить ее в концептуальные рамки читательской биографии? Автор этих мемуаров Н. Ю. Русова взялась поставить такой эксперимент и обратиться к личному прошлому, опираясь на прочитанные книги и вызванные ими впечатления. Знаток художественной литературы, она рассказывает о круге своего чтения, уделяя внимание филологическим и историческим деталям. В ее повествовании любимые стихи и проза оказываются не только тесно связаны с событиями личной или профессиональной жизни, но и погружены в политический и культурный контекст.
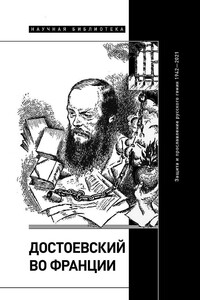
В монографии изложены материалы и исследования по истории восприятия жизни и творчества Ф. М. Достоевского (1821–1881) во французской интеллектуальной культуре, представленной здесь через литературоведение, психоанализ и философию. Хронологические рамки обусловлены конкретными литературными фактами: с одной стороны, именно в 1942 году в университете города Экс-ан-Прованс выпускник Первого кадетского корпуса в Петербурге Павел Николаевич Евдокимов защитил докторскую диссертацию «Достоевский и проблема зла», явившуюся одной из первых научных работ о Достоевском во Франции; с другой стороны, в юбилейном 2021 году почетный профессор Университета Кан — Нижняя Нормандия Мишель Никё выпустил в свет словарь-путеводитель «Достоевский», представляющий собой сумму французского достоеведения XX–XXI веков. В трехчастной композиции монографии выделены «Квазибиографические этюды», в которых рассмотрены труды и дни авторов наиболее значительных исследований о русском писателе, появившихся во Франции в 1942–2021 годах; «Компаративные эскизы», где фигура Достоевского рассматривается сквозь призму творческих и критических отражений, сохранившихся в сочинениях самых видных его французских читателей и актуализированных в трудах современных исследователей; «Тематические вариации», в которых ряд основных тем романов русского писателя разобран в свете новейших изысканий французских литературоведов, психоаналитиков и философов. Адресуется филологам и философам, специалистам по русской и зарубежным литературам, аспирантам, докторантам, студентам, словом, всем, кто неравнодушен к судьбам русского гения «во французской стороне».
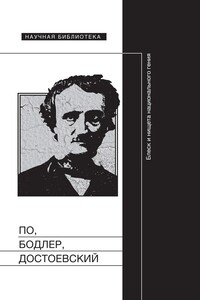
В коллективной монографии представлены труды участников I Международной конференции по компаративным исследованиям национальных культур «Эдгар По, Шарль Бодлер, Федор Достоевский и проблема национального гения: аналогии, генеалогии, филиации идей» (май 2013 г., факультет свободных искусств и наук СПбГУ). В работах литературоведов из Великобритании, России, США и Франции рассматриваются разнообразные темы и мотивы, объединяющие трех великих писателей разных народов: гений христианства и демоны национализма, огромный город и убогие углы, фланер-мечтатель и подпольный злопыхатель, вещие птицы и бедные люди, психопатии и социопатии и др.

В центре внимания книги – идеологические контексты, актуальные для русского символизма в целом и для творчества Александра Блока в частности. Каким образом замкнутый в начале своего литературного пути на мистических переживаниях соловьевец Блок обращается к сфере «общественности», какие интеллектуальные ресурсы он для этого использует, как то, что начиналось в сфере мистики, закончилось политикой? Анализ нескольких конкретных текстов (пьеса «Незнакомка», поэма «Возмездие», речь «О романтизме» и т. д.), потребовавший от исследователя обращения к интеллектуальной истории, истории понятий и т. д., позволил автору книги реконструировать общий горизонт идеологических предпочтений Александра Блока, основания его полемической позиции по отношению к позитивистскому, либеральному, секулярному, «немузыкальному» «девятнадцатому веку», некрологом которому стало знаменитое блоковское эссе «Крушение гуманизма».

Выдающийся филолог конца XIX – начала XX Фаддей Францевич Зелинский вводит читателей в мир античной мифологии: сказания о богах и героях даны на фоне богатейшей картины жизни Древней Греции. Собранные под одной обложкой, они станут настольной книгой как для тех, кто только начинает приобщаться к культурной жизни древнего мира, так и для её ценителей. Свои комментарии к книге дает российский филолог, профессор Гасан Гусейнов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.