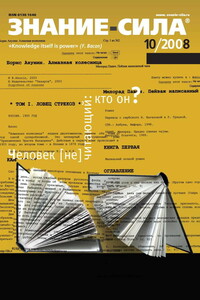Царь всех болезней. Биография рака - [5]
Излечим. Услышав это слово, Карла кивнула, взгляд у нее прояснился. В комнате повисли неизбежные вопросы: насколько излечим? Каковы ее шансы выжить? Сколько времени займет лечение? Я выложил все менее приятные подробности. Как только диагноз будет подтвержден, начнется химиотерапия, которая продлится больше года. Шансы Карлы выжить составляют примерно тридцать процентов, то есть чуть меньше, чем один к трем.
Мы говорили около часа — должно быть, немного дольше. Когда я вышел, было уже девять тридцать утра. Город под нами окончательно пробудился. Дверь за мной захлопнулась, и порыв воздуха вытолкнул меня наружу, запечатав Карлу в палате.
Часть первая
ЧЕРНАЯ ЖЕЛЧЬ
При решении подобных задач очень важно уметь рассуждать ретроспективно. Это чрезвычайно ценная способность, и ее нетрудно развить, но теперь почему-то мало этим занимаются.
Артур Конан Дойл. Этюд в багровых тонах
Нагноение крови
К его постели прикатилиВрачи — светило на светиле.Но каждый, пряча кошелек,«Болезнь неизлечима» рек.Хилэр Беллок
Насущная задача тут — облегчение страданий, а исцеление — лишь трепетная надежда.
Уильям Касл о лейкемии, 1950 г.
В сырой и крошечной (четырнадцать на двадцать футов) лаборатории в Бостоне, декабрьским утром 1947 года, ученый по имени Сидней Фарбер нетерпеливо ждал прибытия посылки из Нью-Йорка. «Лаборатория» размерами была немногим больше аптекарской кладовой — плохо вентилируемая каморка, погребенная в полуподвале Детской больницы, практически на самых задворках. В нескольких сотнях футов от нее медленно пробуждались больничные палаты. Детишки в белых пижамах беспокойно ворочались на маленьких железных койках. Доктора и медсестры деловито сновали между палатами, проверяли медкарты, выписывали рецепты и раздавали лекарства. Одна лаборатория Фарбера оставалась пустой и безжизненной — скопище химикалий и стеклянных колб, соединенное с больницей чередой промерзших коридоров. В воздухе плавала острая вонь формалинового раствора для хранения препаратов. Сюда никогда не попадали пациенты — лишь тела и ткани больных, принесенные через лабиринт переходов для вскрытия и исследования. Фарбер был патологом. В его обязанности входило делать срезы образцов, проводить вскрытия, определять клетки и диагностировать болезни — но не лечить пациентов.
Фарбер специализировался в педиатрической патологии, изучении детских болезней. Он почти двадцать лет провел в этих подвальных комнатах, одержимо глядя в микроскоп и карабкаясь по академической иерархической лестнице к посту главы отделения детской патологии. Но для Фарбера патология стала альтернативной формой медицины, дисциплиной, более занятой мертвыми, чем живыми. Фарбер больше не хотел наблюдать недуги со зрительского места, не касаясь живых пациентов и не занимаясь ими. Он устал от клеток и тканей. Ему казалось, что он попал в капкан, заформалинен в своем собственном стеклянном шкафу.
И потому Фарбер решил кардинально сменить область профессиональной деятельности. Вместо того чтобы щуриться в окуляры микроскопа на безжизненные образцы, он должен проникнуть в жизнь больничных палат наверху, перейти из хорошо известного ему микроскопического мира в увеличенный реальный мир болезней и пациентов и употребить знания, почерпнутые из патологических образцов, на то, чтобы изобрести новые терапевтические подходы. Посылка из Нью-Йорка содержала несколько пузырьков с желтым кристаллическим веществом под названием «аметоптерин». Фарбер заказал его для своей бостонской лаборатории в смутной надежде, что оно способно остановить развитие лейкемии у детей.
Спроси Фарбер любого из обходящих палаты наверху педиатров, возможно ли создать лекарство от лейкемии, они бы посоветовали ему даже и не пытаться. Детские лейкозы удивляли, обескураживали и ставили в тупик врачей уже более ста лет. Этот недуг был самым скрупулезным образом изучен, классифицирован, подклассифицирован и разделен на группы; в пыльных книгах в кожаных переплетах на библиотечных полках детской больницы — андерсоновской «Патологии» или бойдовской «Патологии внутренних болезней» — страница за страницей были покрыты изображениями лейкозных клеток и их подробнейшими таксономическими описаниями. Однако все эти познания лишь преумножали ощущение беспомощности медицины. Болезнь превратилась в объект пустых увлечений, в манекен из музея восковых фигур, в нечто, изученное и сфотографированное в мельчайших подробностях, но без какого бы то ни было терапевтического или практического подхода. «Это давало докторам массу поводов схватиться на медицинских конгрессах, — вспоминал онколог, — но ничуть не помогало их пациентам». Пациента с острым лейкозом привозили в больницу в вихре всеобщего возбуждения, с профессорской величественностью обсуждали на врачебных заседаниях, а потом, как сухо отмечали медицинские журналы, «ставили диагноз, делали переливание крови — и отсылали домой умирать».
Изучение лейкемии с самого начала погрязло в смятении и отчаянии. В марте 1845 года шотландский врач Джон Беннетт описал необычный случай: двадцативосьмилетнего каменщика с загадочным вздутием в селезенке. «Он смугл, — писал о своем пациенте Беннетт, — и в обычном состоянии здоров и порывист; утверждает, что двадцать месяцев назад начал ощущать сильнейшую вялость и апатию, которая продолжается и по сей день. В июне он заметил с левой стороны живота опухоль, которая постепенно росла, пока через четыре месяца этот рост не остановился».
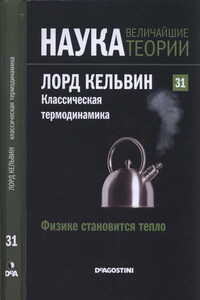
Под именем лорда Кельвина вошел в историю британский ученый XIX века Уильям Томсон, один из создателей экспериментальной физики. Больше всего он запомнился своими работами по классической термодинамике, особенно касающимися введения в науку абсолютной температурной шкалы. Лорд Кельвин сделал вклад в развитие таких областей, как астрофизика, механика жидкостей и инженерное дело, он участвовал в прокладывании первого подводного телеграфного кабеля, связавшего Европу и Америку, а также в научных и философских дебатах об определении возраста Земли.
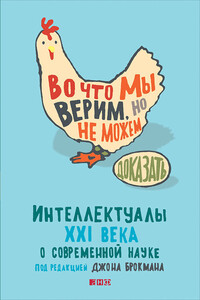
Книга о самых невероятных, оригинальных научно-фантастических идеях, которые в будущем, возможно, станут реальностью. О том, как самые разные ученые, оказывается, способны поверить в любые гипотезы и поведать всем нам о своих идеях, связанных с новыми областями эволюционной биологии, генетики, компьютерных наук, нейрофизиологии, психологии и физики…
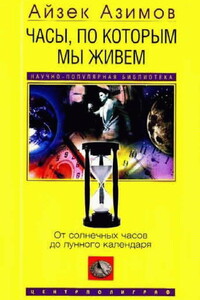
В этой книге А. Азимов рассказывает о том, пак я древности измеряли и отсчитывали время с помощью Луны, Солнца и звезд. Автор приводит интересные факты о солнечным затмениях, изгибах часовых поясов, временах гола, параллелях, к меридианах. Книга предназначена для широкого круга читателей.