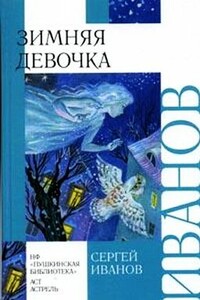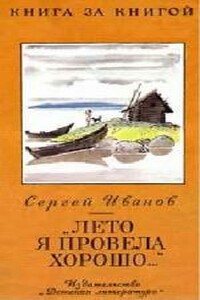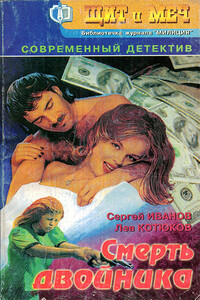Главное, он совершенно не знал, как ему быть, и чувствовал себя словно провинившимся. Впервые он сам нуждался в их помощи и защите. И ему страшно было признаться в этом.
Если б мама!
Но мама его умерла почти пятнадцать лет назад. Сейчас с особой силой Бывший Булка почувствовал, что он совершенно взрослый мужик, причём не очень уже молодой. И он болен. И с каждой съеденной котлетой, с каждой тарелкой щей болезнь его разрастается всё сильнее.
Это при других болезнях говорят: ешь лучше — и поправишься. А здесь — нет. Потому что болезнь эта, она состоит из самого тебя. Она — ты сам, твои собственные клетки, но только переродившиеся, сошедшие с ума.
И они жрут его. Сперва небольно, небольно, небольно. Как сейчас… А потом боль и смерть.
— Ли-да! — закричал он вдруг таким голосом, словно кричал: «Ма-ма!» И сам испугался своего крика. И устыдился: «Ну баба! Страшнее смерти-то ничего не будет…» И остановился удивлённо: он не представлял, как это он, Бывший Булка, может умереть. Как и вы не представляете этого, как и я.
То есть мы, конечно знаем все, что умрём когда-нибудь. Когда-то там, в старости.
А может быть, и никогда…
И Булка — совершенно так же… Но сейчас срок его бесконечной жизни сократился до полугода. Он стал считать: сегодня тринадцатое марта… Апреля, мая, июня, июля, августа, сентября, октя… Нет, это уже много… Чушь какая-то!
Однако он ещё не привык бояться, ещё не заболел страхом, как все тяжело больные люди. Он испытывал только глубокое удивление: неужели это я, про меня?
Вместе с котлетным ветром из кухни вбежала Лида. Бывший Булка уже успел подумать за эти несколько секунд и успел сказать себе: «Ну баба!» И потом: «Чушь какая-то…»
А Лида ведь слышала только испуганный крик. Она увидела отца всё в том же кресле. Господи!
— Батянь!
Он подмигнул ей, но так, словно у него зубы болели. Или, вернее, не зубы, а… А впрочем, у него никогда ничего не болело. И всё это было со стороны Лиды чистейшей выдумкой.
— Батянька, ты чего? Сидишь как-то…
— Лидуш, — попросил он ужасно ни к селу ни к городу, — давай в доминишко сыграем?
Когда он садился с Лидой за домино, это значило, что дома у него всё спокойно. Или будет спокойно.
И ещё: так-то с дочкой не очень контакт наладишь, потому что ты ей про одно, она тебе про другое, и оба вроде правы. А за домино можно и поговорить и пошутить. Да и просто посмотреть друг на друга. Чаще всего они играли вдвоём, когда не было Маринки. Марина Сергеевна презирала домино.
— Сыграем, Лид?
Над нею ещё висели несделанные уроки. А по алгебре и литературе она даже не знала, что задано! Хотелось сказать ему: «Ну тебя, батянька. У меня уроков вагон».
Как потом Лида радовалась, что не сказала ему этого. Плакала, думая о нём, и радовалась, что хотя бы здесь хватило ума не отказать.
Но сейчас она ни о чём, конечно, не догадывалась. Просто взяла коробку: «Странный какой-то он». Но когда батянька с удовольствием перемешал фишки, ловко, одной рукой, поднял свои семь штук и потом хряпнул об стол дупель один-один, Лида успокоилась.
— Конечно, — сказала она, — фишки-то небось сам метил!
Это была обычная доминошная «подначка», без которой вообще нет игры. Бывший Булка ответил ей в тон:
— Что нам метить? Мы без метки насквозь видим. Глаз — рентген!
На этом слове его как током шибануло. Он положил фишки на стол. Причём, что совершенно поразило Лиду, — дырочками наверх, в открытую! Бывший Булка не сразу заметил столь невероятную для него оплошность.
— Я… это, Лидуш… — и не знал, что говорить и делать дальше. Засыпался! Сейчас ещё Маринка придёт. — Я это, Лид… — он мотнул головой не то в сторону ванной, не то в сторону кухни. — Я, понимаешь, дочка…
И слово «дочка» он говорил раз в сто пятьдесят лет. Они услышали эту «дочку» оба.
— Батянь?
Он встал, пошёл на кухню, сел к столу, положив лоб на ладонь… Ну? Совсем раскис?
Лида из комнаты старалась услышать, что он там делает. Всё, что было с нею лишь час назад, провалилось в тартарары. Остался непонятный, будто жутко провинившийся батянька.
Лида встала, чтобы пойти за ним. Прислушалась, прислушалась — ни звука… В прихожей её заставил замереть и вздрогнуть звук ключа… Вошла мама. Лида бросилась к ней.
— Здравствуй-здравствуй, Лидочка, — сказала Марина Сергеевна чуть равнодушно и устало. Обычный голос её после работы.
— Мам! Там батянька! — в самое ухо зашептала ей Лида, так что маме пришлось отстраниться.
— Что… папа? — сказала она, давая понять, что слово «батянька» нелепо.
— Он… — Лида кивнула на кухонную дверь. — Он сидит!
Марина Сергеевна пожала плечами. Однако Лидкина сумбурная тревога тронула холодной лапой и её. Как была, в шапке, в сапогах, с соленым московским снегом на подошвах, она пошла на кухню. Лишь на ходу расстегнула две верхние пуговицы.
Увидев её, муж встал. Глаза их встретились.
— Что случилось, Николай? — спросила она довольно строго.
— А Лидушка где? (Лида вошла на кухню почти сейчас же вслед за матерью.) Выйди отсюда пока, Лид. (Лида, поддаваясь настроению мамы, пожала плечами: «Чудит батянька!») Нет, погоди, Лид…
— Ну что ты волынишь! — Мама присела к столу. — Я устала безмерно. И рукописи, и вёрстки — всё как снег на голову. (Он кивнул.) Ну так что ты молчишь!