Быть и иметь - [50]
Наконец, мы подошли к фундаментальному, на мой взгляд, различию, которому посвящена моя работа об Онтологической Тайне, которую я вскоре собираюсь опубликовать: к различию между проблемой и тайной; оно, впрочем, уже вырисовывается в тех соображениях, которые я вам только что сообщил.
Я позволю себе прочитать здесь отрывок доклада, сделанного мною в прошлом году в философском обществе города Марселя.
Направляя свою рефлексию на то, что все привыкли считать онтологическими проблемами (Существует ли бытие? Что такое бытие? И т. д.), я заметил, что не могу касаться этих проблем и не видеть, как под моими ногами об — разуется новая бездна. Могу ли я, вопрошающий о бытии, быть уверен, что я им обладаю? Какое я имею качество, которое позволило бы мне приступить к этим исследованиям? Если я не существую, то как я могу надеяться их завершить? Даже допуская, что я обладаю бытием, как я могу быть в этом уверен? В противоположность идее, которая сначала предстает моему сознанию, я не считаю, что cogito может здесь нам оказать какую-то помощь. Cogito, как я уже писал, охраняет порог ценности, вот и все; субъект cogito — это субъект эпистемологический. Картезианство содержит в себе аналитическое разъединение, которое, возможно, само по себе губительно для интеллектуального и витального, поскольку в результате мы наблюдаем одинаково произвольное возвышение первого и обесценивание второго. Здесь есть фатальный ритм, который мы хорошо знаем и которому стараемся найти объяснение. И, конечно, нельзя отрицать законность оперирования с различиями уровней для живого существа, которое мыслит и пытается мыслить себя\ но онтологическая проблема может быть поставлена лишь по ту сторону этих различий и по отношению к существу, понимаемому в своем единстве.
Таким образом, мы подошли к вопросу об условиях, содержащихся в понятии проблемы, требующей решения; там, где есть проблема, я работаю с данными, расположенными передо мной, но в то же время все происходит так, как если бы я вовсе не обращал внимания на себя в процессе решения; я бы лишь подразумевался в нем. Там, где мы приступаем к рассмотрению бытия, все иначе. Здесь онтологический статус исследователя выходит на первый план. Можно ли сказать, что я погружаюсь в бесконечное отступление? Но сам факт, что я сознаю свое отступление, возвышает меня над ним; я признаю, что весь рефлексивный процесс осуществляется внутри утверждения: л есть — утверждение, в котором я скорее являюсь центром, чем субъектом. Тем самым мы проникаем в метапроблематику, то есть в тайну. Тайна — это проблема, которая покушается на собственные исходные данные, захватывает их и тем самым перерастает самое себя как проблему.
Здесь невозможно развить эту идею дальше, хотя это было бы нужно сделать. Я ограничусь тем, что приведу пример для закрепления этой идеи. Рассмотрим проблему зла.
Я, естественно, рассматриваю зло как беспорядок, который я наблюдаю и в котором стремлюсь обнаружить причины, или смысл, или даже скрытое предопределение. Как функционирует эта машина столь порочным способом? Или этот внешний изъян связан с реальным изъяном моего восприятия, чем-то вроде духовной дальнозоркости или астигматизма? В таком случае реально беспорядок находится во мне, но не становится менее объективным по отношению к мысли, которая его обнаруживает. Но зло, ясно констатируемое или созерцаемое, перестает быть терпимым злом, вообще, я думаю, перестает быть злом. В действительности я расцениваю его как зло, лишь когда оно настигает меня, то есть когда я вовлечен в него каким-то образом; эта вовлеченность является здесь фундаментальной; абстрагирование от него было бы в некоторых отношениях законным, но мнимым, и я не должен быть им обманут.
Традиционная философия стремилась превратить тайну зла в проблему; и поэтому, когда она приступает к реальностям такого порядка, как зло, любовь, смерть, у нас часто возникает ощущение игры, мы чувствуем, что это разновидность интеллектуальных фокусов; это чувство тем сильнее, чем более идеалистической является философия, чем более мыслящий субъект упивается свободой, в действительности совершенно мнимой.
Нужно было бы теперь вернуться к первой части моего сообщения и попытаться показать, как она проясняется в свете этих различий. Мне кажется очевидным, что система обладания смешивается с системой проблематики, — впрочем, одновременно и с системой технических средств. Метапроблематика в действительности является метатехникой. Всякая техника предполагает комплекс предварительных абстракций, которыми она обусловлена, но которые оказываются бессильными там, где вопрос ставится о бытии в целом. Это может быть продолжено во многих направлениях. В основе обладания как проблемы или как некоей техники лежит определенная специализация или конкретизация своего "я", связанная со сделкой, о которой я недавно говорил. И здесь мы подходим к исследованию различия, которое мне кажется фундаментальным и на котором я закончу свое перегруженное сообщение; я имею в виду различие между автономией и свободой.
Важно отметить, что автономия — это прежде всего не-гетерономия. Исходная формула автономии: "я сам занимаюсь своими делами". Поэтому мы видим здесь то напряжение между собой и другим, которое составляет сам ритм мира обладания. Впрочем, нужно признать, я думаю, что автономия имеет отношение к любой системе, где возможно управление, в какой бы то ни было форме. Она в действительности включает в себя понятие некоторой сферы деятельности и определяется тем более явно, чем более четко ограничена эта сфера во времени и пространстве. Все, что относится к сфере ее интересов, какими бы они ни были, с достаточной легкостью рассматривается как ее область, ею ограниченный район. Более того. Я могу рассматривать свою жизнь в значительной мере как поддающуюся управлению со стороны другого или меня самого ("меня самого" здесь означает "не другого"). Я могу управлять всем, что может в какой-то мере быть уподоблено, даже косвенно, обладанию. И обратно: когда категория обладания становится неприложимой, я больше ни в каком смысле не могу говорить ни об управлении, ни об автономии. Возьмем, например, категорию дара (литературного и художественного). До некоторой степени дар может быть управляемым, когда тот, кто им обладает, пользуется им как собственностью; идея такого управления совершенно противопоказана гению, который ускользает от самого себя, переходит через пределы во всех возможных смыслах. Человек (есть) гений, он обладает талантом (выражение "иметь гений "является бессмысленным). Я думаю, что идея автономии, как ее ни мыслить, связана с некоторым преуменьшением или обособлением субъекта. Чем более целостно я вступаю в деятельность, тем менее законно я могу назвать себя автономным; в этом смысле философ менее автономен, чем ученый, ученый менее автономен, чем практик. Самое автономное существо в известном смысле является самым связанным. Но не-автономия философа или великого художника не является гетерономией так же, как любовь не является гетероцентризмом. Она укоренена в бытии, то есть вне себя (или по ту сторону от себя), в зоне, которая трансцендентна по отношению ко всякому возможному обладанию, в зоне, которой я достигаю в созерцании, в поклонении. Для меня это означает, что эта не-автономия и есть сама свобода.
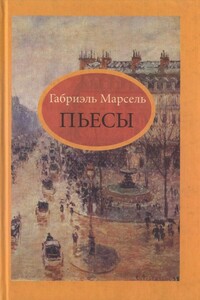
Габриэль Марсель широко известен в России как философ-экзистенциалист, предтеча Ж. П. Сартра, современник М. Хайдеггера. Между тем Марсель — выдающийся драматург. Его пьесы переведены на многие языки, ставились, помимо Франции, в ФРГ, Италии, Канаде и других странах.В настоящем сборнике впервые на русском языке публикуются избранные произведения из драматургического наследия Марселя. Пьесы, представленные здесь, написаны в годы первой мировой войны и непосредственно после ее окончания. Вовлеченность в гущу трагических событий характерна для всего творчества Марселя.
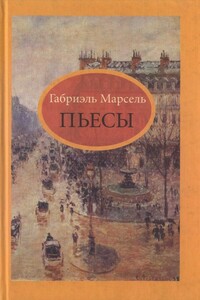
Габриэль Марсель широко известен в России как философ-экзистенциалист, предтеча Ж. П. Сартра, современник М. Хайдеггера. Между тем Марсель — выдающийся драматург. Его пьесы переведены на многие языки, ставились, помимо Франции, в ФРГ, Италии, Канаде и других странах.В настоящем сборнике впервые на русском языке публикуются избранные произведения из драматургического наследия Марселя. Пьесы, представленные здесь, написаны в годы первой мировой войны и непосредственно после ее окончания. Вовлеченность в гущу трагических событий характерна для всего творчества Марселя.
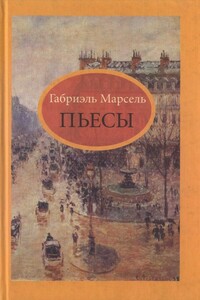
Габриэль Марсель широко известен в России как философ-экзистенциалист, предтеча Ж. П. Сартра, современник М. Хайдеггера. Между тем Марсель — выдающийся драматург. Его пьесы переведены на многие языки, ставились, помимо Франции, в ФРГ, Италии, Канаде и других странах.В настоящем сборнике впервые на русском языке публикуются избранные произведения из драматургического наследия Марселя. Пьесы, представленные здесь, написаны в годы первой мировой войны и непосредственно после ее окончания. Вовлеченность в гущу трагических событий характерна для всего творчества Марселя.
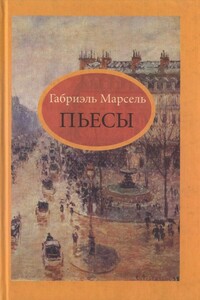
Габриэль Марсель широко известен в России как философ-экзистенциалист, предтеча Ж. П. Сартра, современник М. Хайдеггера. Между тем Марсель — выдающийся драматург. Его пьесы переведены на многие языки, ставились, помимо Франции, в ФРГ, Италии, Канаде и других странах.В настоящем сборнике впервые на русском языке публикуются избранные произведения из драматургического наследия Марселя. Пьесы, представленные здесь, написаны в годы первой мировой войны и непосредственно после ее окончания. Вовлеченность в гущу трагических событий характерна для всего творчества Марселя.
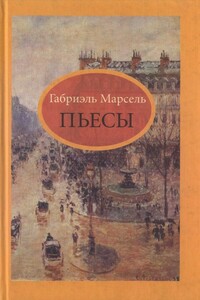
Габриэль Марсель широко известен в России как философ-экзистенциалист, предтеча Ж. П. Сартра, современник М. Хайдеггера. Между тем Марсель — выдающийся драматург. Его пьесы переведены на многие языки, ставились, помимо Франции, в ФРГ, Италии, Канаде и других странах.В настоящем сборнике впервые на русском языке публикуются избранные произведения из драматургического наследия Марселя. Пьесы, представленные здесь, написаны в годы первой мировой войны и непосредственно после ее окончания. Вовлеченность в гущу трагических событий характерна для всего творчества Марселя.
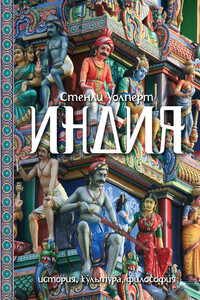
«Индия» Стенли Уолперта — это увлекательная история древней цивилизации, на протяжении прошлого века превратившейся в современную нацию. Индия — огромный континент, дом для пятой части человечества, но она остается загадкой для большинства не-индийцев, история ее едва понятна и плохо изучена. Стенли Уолперт представляет краткий и исчерпывающий обзор индийской истории и культуры. Последнее издание этой популярной монографии заканчивается обсуждением результатов последних национальных выборов, экономического эффекта глобализации и последствий присоединения Индии к гонке ядерных вооружений.
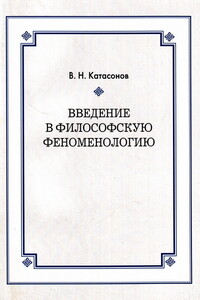
Владимир Николаевич Катасонов — российский философ и православный богослов.Доктор философских наук, доктор богословия.Первое высшее образование получил в МГУ им. М. В. Ломоносова, окончив механико-математический факультет. В 1995 году в Институте философии РАН защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора философских наук по теме «Философские предпосылки новоевропейской математики». В 2012 году защитил докторскую диссертацию по богословию по теме «Концепция актуальной бесконечности как место встречи богословия, философии и науки».В. Н. Катасонов является автором более 130 научных и научно-методических работ, в том числе 6 монографий, составитель и ответственный редактор 6 научных сборников.Работы В. Н. Катасонова посвящены обсуждению философско-религиозных аспектов культуры, среди них: генезис новоевропейского естествознания, диалог науки и религии, история западноевропейской и русской философии, религиозные аспекты русской литературы, философские проблемы образования, философия политики.

В книге В. К. Кантора, писателя, философа, историка русской мысли, профессора НИУ — ВШЭ, исследуются проблемы, поднимавшиеся в русской мысли в середине XIX века, когда в сущности шло опробование и анализ собственного культурного материала (история и литература), который и послужил фундаментом русского философствования. Рассмотренная в деятельности своих лучших представителей на протяжении почти столетия (1860–1930–е годы), русская философия изображена в работе как явление высшего порядка, относящаяся к вершинным достижениям человеческого духа.Автор показывает, как даже в изгнании русские мыслители сохранили свое интеллектуальное и человеческое достоинство в противостоянии всем видам принуждения, сберегли смысл своих интеллектуальных открытий.Книга Владимира Кантора является едва ли не первой попыткой отрефлектировать, как происходило становление философского самосознания в России.

Левинсон пишет о московских протестах, как если бы они происходили одновременно в разных топосах: в интеллектуальном, в социологическом, в России в целом, в интернете и, наконец, в публичном пространстве Москвы. Топосы эти сложным образом перетекают друг в друга и друг с другом пересекаются, образуя сложную и неочевидную систему открытых сцен, убежищ, коммуникативных каналов, точек накопления и наоборот, высвобождения энергии.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
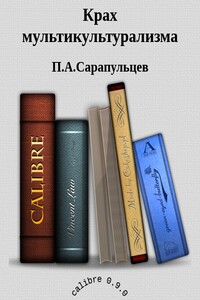
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.