Будка - [5]
— То-то… Вы мастера по чужим карманам нашаривать…
— Нет, нет!.. Где уж нам, голубчик, на чужое льститься…
На свои, признаться, двенадцать копеек сбегала… Кушайте…
Оно освежает…
— Вы это мастера облущить кавалера, — сказал Данило Гордеич и выпил. Выпил он, почувствовал просвежение и продолжал молча смотреть на подругу.
— Все-то разворовано, раскрадено, — говорила она шепотом, прибирая какие-то гвозди и палки, — ишь натекло с окошка-то!.. Аль это у вас некому стену-то заткнуть, ишь несет оттуда, ровно из погреба…
Так шептала она, изредка прибавляя: "сейчас, сейчас, батюшка, уйду", — и Данило Гордеич почувствовал, что в этом прибиранье, в этой заботе о просвежении нету никакого желания нашарить в карманах и обокрасть… Думал, думал он, молчал, соображал, но в голове его ничего путного не происходило: не являлось ничего такого, что было ему очень нужно теперь, что ему именно теперь хотелось узнать… Но зато в груди его что-то поднималось и буровило…
— Ну, покорнейше вас благодарю, обогрелась… теперь…
При этих словах грудь портного с боков сдвинуло что-то.
— Ты! — крикнул он весьма громко.
— Что, голубчик?..
— Оставайся!
Женщина изумленно посмотрела на него.
— Не ходить?
— Совсем оставайся… Не пущу!.. Боле ничего!
Данило Гордеич повернулся было спиной к своей уходившей подруге, но тотчас же вскочил и заговорил:
— Да что там? вот разговаривать!.. Беги-ко за водкой… полштоф!
— Не прогонишь? — чуть не рыдая, говорила женщина. — Голубчик!
— Я говорю, беги!.. Х-хе… Да я их, чертей… Ну-кося, вот эту штуку захвати в кабаке-то оставить.
— Чужая ведь! Данил Гордеич — заказная!
— Расшевеливайся! Заказная! Я их! погоди!.. Да сем-ко я с тобой… Что там!
С этих пор настало новое пьянство, пропивалась заказная работа, пелись песни, постоянно слышались слова: "черт их возьми!", "погоди!", "я их!"
Пьянство это дышало какою-то надеждою и не носило того тягостного оттенка, с которым Данилка пьянствовал до сего времени. Новые чувства, расшевелившиеся в нем, выражались как-то странно. Иной раз он вдруг задумает что-нибудь открыть своей подруге, попытается что-то сообщить и скажет: "Чуешь аи нет, что я говорю?" Потом схватит ее за руку, сожмет ее крепко-накрепко, скажет: "так аль нет?", хлопнет со всего размаха своей ладонью по ладони приятельницы, словно барышник на конной, потом опять начнет ломать ее пальцы в своей руке и заорет:
— Пон-ни-маешь ай нет?
— Понимаю, Данил Гордеич, понимаю-с!
— Ну, и боле ничего! Так я говорю?
— Так, так…
— Ну, и шабаш!.. Только всего!
Пропивание чужого добра шло довольно долго. Подруга Данилки, знавшая, что остановить этого пропивания невозможно, заботилась только о том, чтобы друг ее не разбил себе головы: остальное "наживется".
К концу двух недель после первой встречи настала в конуре Данилки тишина и труд…
— Что за шум! — заговорил Мымрецов, появляясь в одну из таких необыкновенно тихих минут. — По какому случаю дебош?
Мымрецову не могло даже представиться, чтобы не было буйства там, где появлялся он.
— Потому, мы не допущаем, чтобы, например, дебош! — продолжал он, хватая Данилку.
— Кузьмич, друг! — завопил портной, — что ты?
— Не бунтуй, бунту не заводи! И теперича женский пол, ежели…
— Женюсь, женюсь, брат! в закон беру, аль ты очумел? за что ж в часть-то? в закон! хоть сейчас под венец.
Мымрецов выпустил шиворот Данилки и остался среди конуры в большом недоумении.
— Что ты? — продолжал Данилка укоризненно. — А я было в намерении моем на брак мой тебя хотел потребовать, но ежели ты меня в поволочку…
Долго Данилка укорял Кузьмича в несправедливости его желаний и развивал планы насчет будущего супружеского счастия с Аленой Андреевной, которой он задумал передать на руки свое добро и хозяйство нажитое. Речи его были до того сильны, что Мымрецов не осмелился снова посягнуть на свободу Данилки, а только прибавил:
— А все, Данил о, надо бы тебе по делам-то в части высидеть… Потому, дебош оченно большой ты затеял. Оченно большой шум!
IV
Надо сказать правду, что случаи, подобные вышеприведенному, когда шиворот, попавший уже в руки Мымрецова, неожиданно исчезал из них, бывали с нашим героем довольно часты.
В такие минуты он решительно не мог ничего сообразить и предавался глубокому унынию.
— У нас этого нельзя, — бормотал он, возвращаясь домой, например, от Данилки: — мы не дозволяем этого, чтобы вырываться… Так-то.
Течение времени, конечно, успокоивало его, но бывали моменты до того потрясающие, что потом нужно было много удачных тасканий, чтобы привести Мымрецова в нормальное состояние.
Вот, например, однажды темным зимним вечером в будку просунулась голова сыщика.
— Живо! Собирайся! — крикнул он Мымрецову и снова захлопнул дверь, чтобы созвать еще двух подчасков; сыщик торопился по случаю одного важного дела, в котором принимали участие многие уездные сановники: вечером того же дня у почтовой гостиницы сзади одного дормеза был отрезан каким-то вором чемодан. Надо было разыскать вора.
Мымрецов скоро был готов и вышел из будки, чуя поживу; на улице его ожидали сыщик, сидевший в санях, и два солдата.
— Куда ж нам натрафить? — спросил сыщик.
— Теперь, вашескобродие, надо бы нам в ночлежные дома утрафлять, — сказал солдат.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
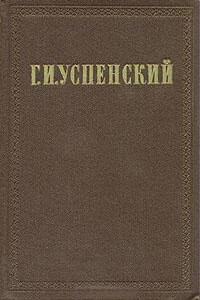
В настоящее издание включены все основные художественные и публицистические циклы произведений Г. И. Успенского, а также большинство отдельных очерков и рассказов писателя.

«Это просто рассказ… о личном знакомстве человека улицы с такими неожиданными для него впечатлениями, которых он долго даже понять не может, но от которых и отделаться также не может, критикуя ими ту же самую уличную, низменную действительность, к которой он сам принадлежит. Тут больше всего и святей всего Венера Милосская… с лицом, полным ума глубокого, скромная, мужественная, мать, словом, идеал женщины, который должен быть в жизни — вот бы защитникам женского вопроса смотреть на нее… это действительно такое лекарство, особенно лицо, от всего гадкого, что есть на душе… В ней, в этом существе, — только одно человеческое в высшем значении этого слова!» (Глеб Успенский)
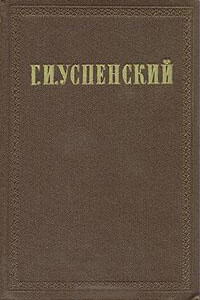
В настоящее издание включены все основные художественные и публицистические циклы произведений Г. И. Успенского, а также большинство отдельных очерков и рассказов писателя.

В настоящее издание включены все основные художественные и публицистические циклы произведений Г. И. Успенского, а также большинство отдельных очерков и рассказов писателя.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.