Бродячий делегат - [7]
– Хорошенько бы отхлестать эту абстрактность! Как я уже говорил, эта ваша абстрактность стремится нарушить мир и покой, абстрактно или не абстрактно, он ползет вперед, пока не доходит прямо до убийства – убийства тех, которые не сделали ему никакого вреда, только за то, что они владеют лошадьми.
– И знают, как управлять ими, – сказала Тедда. – Это еще хуже.
– Ну, во всяком случае, он не убил их, – сказал Марк. – Его избили бы до полусмерти, если бы он попробовал сделать это.
– Все равно, – ответил Род. – Он собирался сделать это, а если и нет, то все же, послушайся мы его совета, мы превратили бы это единственное место нашего отдыха в арену для дрессировки лошадей. Тогда вышло бы, что мы желаем, чтобы наши люди разгуливали здесь с уздами, и трубками, и хлыстами, и с руками, наполненными камнями, чтобы бросать их в нас, словно мы свиньи. Кроме того, за исключением Тедды, – и то, я думаю, дело в ее рте, а не в манерах – почти все лошади на этой ферме принадлежат женщинам, и все мы гордимся этим. А этот канзасский подсолнечник с наколенным грибом расхаживает себе по стране и хвастается, что сбрасывал женщин и детей. Не стану спорить, что женщина в кабриолете глупа. Соглашаюсь, что она отчаянно глупа, а дети еще того хуже – они шалят, встают, кричат, но, во всяком случае, скажу, что не наше дело опрокидывать их на дорогу.
– Мы не делаем этого, – сказал Дикон.
– Малютка пробовал вырвать у меня на память волос из хвоста осенью, когда я стоял в доме, и я не брыкался. Нам не стоит слушать этого, Бони. Мы ведь не жеребята, – сказал Дикон.
– Вы так думаете? Может быть, когда-нибудь вы попадете в давку в день выборов или на ярмарку в город, вам будет жарко, вы покроетесь пеной, мухи будут надоедать вам, вам захочется пить и надоест лавировать между экипажами. В это время кто-то шепнет вам за наглазниками, напомнит весь разговор о рабстве, неоспоримых правах и тому подобное, а вдруг начнут стрелять из пушки или вы заденете колесами и… ну и станете одной из тех лошадей, на которых нельзя положиться. Много раз бывал я там. Ребята, ведь я видел, как вас всех покупали или объезжали, клянусь моей репутацией, что ничего не выдумываю. Я рассказываю то, что испытал, а мне доводилось возить тяжести, каких и не пробовал никто из вас. Я родился с шишкой величиной с грецкий орех на передней ноге и с отвратительным нравом – хембльтонским, благодаря которому становишься угрюмым и кислым, как свернувшееся молоко. Даже маленький Рик не знает, чего мне стоило держаться спокойно, я сдерживал мой нрав и в конюшне, и в упряжке, и при переходах, и на пастбище, пока пот не струился с моих подков; тогда они подумали, что я болен, и дали мне слабительного.
– Когда я захворал, – кротко сказал Туиззи, – я чуть было не потерял мои прекрасные манеры. Позвольте мне выразить вам свое участие, сэр.
Рик ничего не сказал, но с любопытством посмотрел на Рода. Рик – веселенький ребенок, ни к кому не питавший злобы, я думаю, не вполне понимал слова Рода. У него характер матери, как это и должно быть у лошади.
– Я также испытала это, Род, – сказала Тедда. – Открытое признание полезно для души, а мои испытания известны всему графству Монроэ.
– Но, извините меня, сэр, эта личность, – Туиззи взглянул на рыжего коня неописуемым взглядом, – эта личность, оскорбившая наши умы, явилась из Канзаса. А то, что говорит лошадь его положения, да еще из Канзаса, не может ни на волосок касаться джентльменов нашего положения. Тут нет ни тени равенства, даже ни на шаг. Он не стоит нашего презрения.
– Пусть говорит, – сказал Марк. – Всегда интересно знать, что думает другая лошадь. Это не касается нас.
– И он так хорошо говорит, – сказала Тэкк. – Давно я не слышала ничего такого интересного.
Опять Род скривил челюсти и продолжал медленно, точно он тащился по трудной дороге после тридцатимильного пути:
– Я хочу, чтобы вы поняли, что в нашем деле нет ни Канзаса, ни Кентукки, ни Вермонта. В Соединенных Штатах есть только два сорта лошадей – те, которых можно объездить и которые слушаются и исполняют свою работу, и те, которые не желают подчиняться и работать. Мне надоело, и я устал от этого вечного размахивания хвостами и разговоров об одном или другом штате. Лошадь может гордиться своим штатом и говорить всякий вздор про него, когда стоит в конюшне или в свободное время, но она не имеет права позволить, чтобы эта местная гордость мешала ее работе, или пользоваться ею, доказывая, что она не такая, как другие лошади. Это жеребячья болтовня, не забывай, Туиззи. А ты, Марк, помни, что хотя ты философ и не любишь беспокойства – ведь это правда, но это не мешает тебе броситься со всех четырех ног на этого безумного Бонн со слабыми челюстями. Они могут губить жеребцов и убивать людей только потому, что их оставляют в покое. Ну, а ты, Тэкк, хотя, положим, ты и кобыла, но, когда является лошадь, которая после того, как убьет своего хозяина, прикрывает убийство рассказами о журчащих ручейках и колеблющейся траве, не увлекайся ее рассказами. Ты слишком молода и нервна.
– У меня, наверно, будет нервный припадок, если здесь произойдет драка, – сказала Тэкк, заметив выражение глаз Рода, – я… я так сочувствую, что хотела бы убежать в соседнюю страну.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
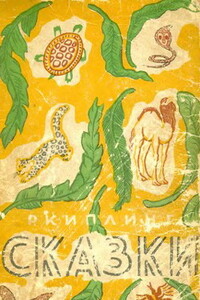
Сказка Р. Киплинга в переводе К. И. Чуковского. Стихи в переводе С. Я. Маршака. Рисунки В. Дувидова.
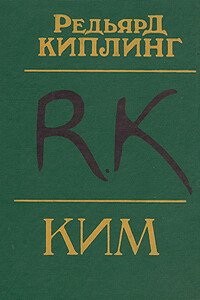
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
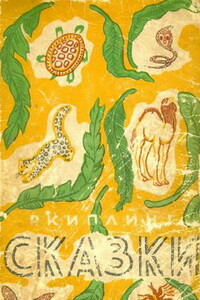
Сказка Р. Киплинга в переводе К. И. Чуковского. Стихи в переводе С. Я. Маршака. Рисунки В. Дувидова.
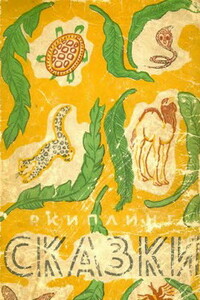
Сказка Р. Киплинга о том, откуда взялись броненосцы в переводе К. И. Чуковского. Стихи в переводе С. Я. Маршака. Рисунки В. Дувидова.
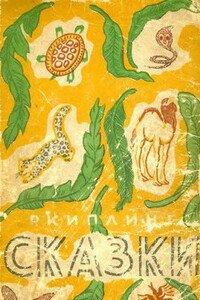
Сказка Р. Киплинга о том, как было написано первое письмо, в переводе К. И. Чуковского. Рисунки В. Дувидова.
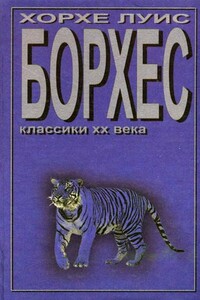
Прошла почти четверть века с тех пор, как Абенхакан Эль Бохари, царь нилотов, погиб в центральной комнате своего необъяснимого дома-лабиринта. Несмотря на то, что обстоятельства его смерти были известны, логику событий полиция в свое время постичь не смогла…
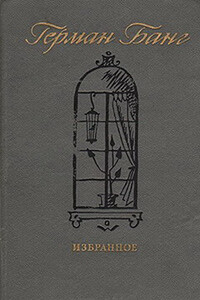
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
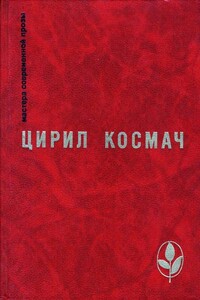
Цирил Космач (1910–1980) — один из выдающихся прозаиков современной Югославии. Творчество писателя связано с судьбой его родины, Словении.Новеллы Ц. Космача написаны то с горечью, то с юмором, но всегда с любовью и с верой в творческое начало народа — неиссякаемый источник добра и красоты.
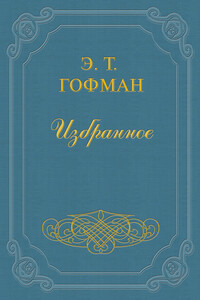
«В те времена, когда в приветливом и живописном городке Бамберге, по пословице, жилось припеваючи, то есть когда он управлялся архиепископским жезлом, стало быть, в конце XVIII столетия, проживал человек бюргерского звания, о котором можно сказать, что он был во всех отношениях редкий и превосходный человек.Его звали Иоганн Вахт, и был он плотник…».

Польская писательница. Дочь богатого помещика. Воспитывалась в Варшавском пансионе (1852–1857). Печаталась с 1866 г. Ранние романы и повести Ожешко («Пан Граба», 1869; «Марта», 1873, и др.) посвящены борьбе женщин за человеческое достоинство.В двухтомник вошли романы «Над Неманом», «Миер Эзофович» (первый том); повести «Ведьма», «Хам», «Bene nati», рассказы «В голодный год», «Четырнадцатая часть», «Дай цветочек!», «Эхо», «Прерванная идиллия» (второй том).
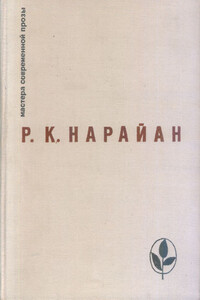
Рассказы Нарайана поражают широтой охвата, легкостью, с которой писатель переходит от одной интонации к другой. Самые различные чувства — смех и мягкая ирония, сдержанный гнев и грусть о незадавшихся судьбах своих героев — звучат в авторском голосе, придавая ему глубоко индивидуальный характер.